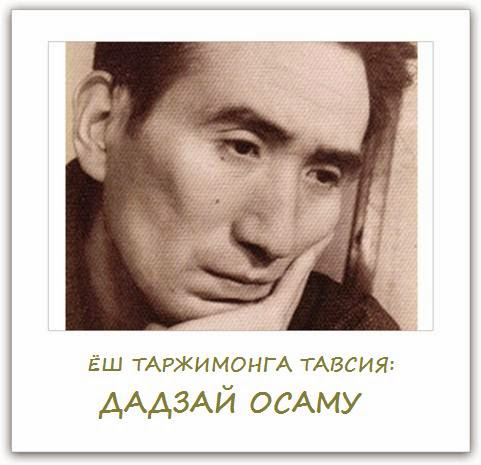
Из всех японских писателей-эго-беллетристов ХХ в. самым ярким по праву считается Дадзай Осаму — человек, проживший полную трагизма жизнь и оставивший после себя ряд интереснейших произведений (Ю.В. Осадчая).
«Белое полотнище моей души испещрено какими-то мелкими знаками. Мне и самому непросто разгадать, что там начертано. Словно десятки муравьев, вылезши из моря туши, с еле внятным шорохом ползали, кружились по этому белому полотну, и на нём отпечатались их смутные следы. И если бы я сумел разобрать эти темные письмена, если бы я сумел их прочесть и понять, я смог бы объяснить, в чём смысл моего „долга“. Только очень уж это трудно» (Дадзай Осаму, «Отец»).
Дадзай Осаму
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ
ВИШНИ
Возвожу очи мои к горам…
Псалом 120, стих 1
Родителей надо ставить выше детей — это мое твердое убеждение, хотя из рассуждений в духе старозаветных моралистов, что, мол, все для детей и так далее в том же духе, выходит, что с родителями вообще не стоит считаться. Именно так обстоит дело в моей семье. Я вовсе не тешу себя надеждой, что дети будут покоить мою старость, но все свои силы отдаю заботам о здоровье своих малышей. У меня их трое: старшей семь лет, сыну четыре, младшей всего год. Однако они уже начинают каждый на свой лад командовать родителями. Отец с матерью того и гляди окажутся в услужении у собственных отпрысков.
Лето… Вся семья собралась за ужином в комнатке размером в три татами. Шум, возня; отец, то и дело вытирая полотенцем вспотевшее лицо, недовольно ворчит:
— В «Янагидару»[«Янагидару» (полное название «Хайфу янагидару») — сборники сатирических и шуточных стихотворений, издавались в конце XVIII — начале XIX вв.] сказано, что последнее дело потеть за едой, однако мои дети столь надоедливы, что даже с такого благовоспитанного папаши пот льет градом.
— У нашего папочки больше всего потеет нос, верно? Он всегда вытирает нос особенно старательно, — говорит мать. Она разрывается на части, успевая кормить грудью малютку, подавать на стол, утирать носы, подбирать и вытирать все, что роняется и проливается.
Отец криво усмехается.
— А ты где вытираешь? Между ляжками?
— Вот так благовоспитанный папаша!
— Это же твой обычный разговор на медицинские темы, не так ли? Тут уж не может быть ни высоких, ни низких материй.
У матери посерьезнело лицо:
— Вот здесь, на груди у меня… ущелье слез.
Ущелье слез. Отец молча продолжает есть.
Дома я всегда отшучиваюсь. Раз уж душа преисполнена горечи, приходится делать хорошую мину при плохой игре. Не только дома, но и с людьми я стараюсь держаться непринужденно (даже в минуту смертельной опасности!), каковы бы ни были мои душевные или физические страдания. Бывает, провожаешь гостя, а сам шатаешься от усталости, и в голову лезут мысли о деньгах, о чести, о самоубийстве. Впрочем, такое случается со мной не только на людях. Когда я пишу, происходит то же самое. В горькие минуты я стремлюсь писать легкие, беззаботные вещи. Мне хочется сделать для людей доброе дело, но они этого не понимают и с презрением заявляют, что писатель Дадзай стал работать кое-как, пытается завлечь читателя занимательным сюжетом и вообще слишком легковесен.
Но разве плохо, если человек человеку добро делает? Или угрюмая надменность лучше?
Короче, мне ненавистно все напыщенное, нудное, все, что стесняет и связывает. Я всегда шучу дома, шучу, даже когда кошки на душе скребут. Вопреки представлениям некоторых читателей и критиков, циновки в моей комнате новенькие, на столе прибрано, супруги ценят и уважают друг друга, и не то чтобы муж ударил жену — скандала-то настоящего («Вон отсюда!», «Ну и уйду!») ни разу не было. Отец не меньше матери любит детей, а дети привязаны к родителям.
Однако все это внешняя сторона. Стоило матери приоткрыть душу — и вот вам ущелье слез. И отцу не легче, все чаще просыпается он по ночам в холодном поту. Каждый знает, из-за чего страдает другой, но они стараются не касаться этого, и тогда отец пускает в ход шутку, мать — улыбку.
И сейчас, услышав от матери про ущелье слез, отец умолкает: как ни хочется превратить все в шутку, нужных слов у него нет. Молчание тянется, ощущение неловкости нарастает, и в конце концов отец несмело, как бы размышляя вслух, говорит вполголоса, стараясь успокоить мать:
— Найми же прислугу, без нее не обойтись.
Детей трое. Отец абсолютно не способен заниматься домашними делами. Даже постели сам не уберет, знай отделывается глупыми шуточками. Ему невдомек, что существует карточная система и надо проходить регистрацию. Будто в гости пришел или постоялец в гостинице. Захватит бэнто и отправляется в комнату, которую снимает для работы, и, бывает, по целым неделям не является домой. Шумит: «Работа, работа», а напишет от силы страницы три в день — и за сакэ принимается. Упьется, еле живой спать завалится. Мало того, у него, похоже, всюду знакомые девицы.
Да, дети… Старшая и этой весной родившаяся малютка, хотя и простуживаются постоянно, однако, что ж, — дети как дети. Но вот сын — худой, как щепка, в свои четыре года не ходит и не говорит, да и понимает плохо. Ест много, но тела не набирает и не растет, волосы на голове как пух и тоже не растут.
Отец и мать избегают серьезного разговора о сыне. Им слишком тяжело признать истину и произнести слова «дефективный», «глухонемой».
Мать то и дело крепко обнимает его, а отца нередко охватывает внезапное желание взять сына на руки и вместе с ним броситься в реку.
«Зарублен сын, глухонемой. Такого-то числа, во второй половине дня г-н X., пятидесяти трех лет, торговец, проживающий по такому-то адресу, у себя дома ударом топора по голове убил восемнадцатилетнего сына, а сам ножницами проткнул себе горло, но остался жив и находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Его дочь, двадцати двух лет, только что вышла замуж, зять будет жить в их семье, и отец совсем потерял голову, опасаясь, что из-за глухого и слабоумного сына жизнь молодоженов разладится».
От таких вот газетных заметок снова пьешь беспробудно. Ах, если бы все дело было только в том, что наш сын отстал в развитии! Тогда не исключено, что в один прекрасный день он начнет взрослеть, развиваться, догонит своих сверстников, и с каким негодованием и смехом вспомнят тогда родители свои прежние страхи и тревоги! Отец с матерью лелеют эту мечту, хотя и не делятся ею ни с родными, ни с друзьями, и вообще держатся так, словно ничего не происходит, даже подсмеиваются и подтрунивают над сыном.
Мать делает для семьи все, что возможно, да и отец не сидит сложа руки. Правда, писатель он не плодовитый и больно уж нерасторопный. Выставили его напоказ публике, вот он и пишет, поеживаясь от всеобщего внимания. Писать — это труд адский, Приходится пить горькую, чтобы отвести душу. Пьют, когда не могут отстоять свои убеждения, пьют судорожно, с отвращением. Кто хорошо знает, чего хочет, и твердо стоит на своем, у того не бывает запоя (вот почему среди женщин так мало пьяниц).
Мне не приходилось выходить победителем в спорах, я всегда терплю поражение. Меня подавляет непоколебимая убежденность партнеров, их настойчивая самоуверенность, и я умолкаю. Все обдумав, я обнаруживаю себялюбивую ограниченность моих противников и убеждаюсь, что есть люди поплоше меня, но, если однажды спор выигран, нет настроения снова рваться в бой. К тому же у меня от споров всегда остается скверный осадок, совсем как после драки. Выхожу из спора с улыбкой, хотя меня прямо трясет от ярости, потом принимаюсь размышлять, и все кончается пьянкой.
Давайте говорить начистоту. Я тут тяну резину, увожу читателей в сторону, но в чем же суть моего рассказа? Суть его — в конфликте между супругами. «Ущелье слез». Слова эти словно искра, которая может вызвать взрыв. И муж, и жена — люди воспитанные, не позволят себе не только рукоприкладства, но даже грубой перебранки. В жизни не раз бывали у них критические ситуации. Но их выдержка не давала событиям развернуться даже в самые острые моменты, когда каждая из сторон, в молчании собирающая доказательства вины другой стороны, могла бы, набирая карту за картой, неожиданно бросить их на стол с возгласом: «Мой выигрыш!» Что она так держится, это понятно: женщина есть женщина; вот он — мужчина ведь, а тряпка тряпкой.
Ущелье слез…
Муж ушам не поверил, но он не выносит препирательства и смолчал. Ты сказала это скорее всего в пику мне, но слезы-то льешь не ты одна. Я не меньше тебя думаю о детях. Я считаю, что семья для меня — самое главное. Чуть закашляет ночью ребенок, и я просыпаюсь сам не свой. Мне ужасно хочется и жилье подыскать получше, и жизнь тебе с детьми наладить, только руки никак не доходят. Я и так работаю на пределе сил. Не исчадие же ада я, в самом деле. У меня никогда не хватит духу со спокойной совестью бросить жену и детей на произвол судьбы. А насчет карточек и регистрации, так я не то что не знаю, просто у меня нет времени интересоваться подобными вещами.
…Все это отец произносит про себя, высказаться у него не хватает решимости, кроме того, он почти уверен, что не стоит заводить разговор, который жена не поддержит. И он, как бы размышляя вслух, произносит с легким нажимом:
— Найми прислугу.
Жена тоже не очень-то разговорчива и, когда к ней обращаются, сохраняет невозмутимую самоуверенность (и не одна она, все женщины, в общем, таковы).
— К нам никто не пойдет.
— Поищешь — так найдешь. Должен же найтись человек, который согласится у нас жить!
— Но ты утверждаешь, что все равно прислуга у меня будет плохо работать.
— Этого я…
Отец и в самом деле так думает, но предпочитает промолчать.
— Ну хоть бы кого-нибудь наняла!
Когда мать с малышкой за спиной уходит из дома по делам, отцу приходится присматривать за старшими детьми. Да еще что ни день — в доме человек десять гостей.
— Хочу сходить позаниматься в своей рабочей комнате.
— Прямо сейчас?
— Да. Понимаешь, работу надо закончить сегодня вечером.
Я говорю правду, но больше всего мне хочется сбежать от уныния и тоски, царящих в доме.
— Сегодня вечером я собираюсь навестить сестру.
Я знаю, что ее сестра серьезно больна. Когда жена отправляется к ней, мне приходится возиться с детьми.
— Так вот, наймешь кого-нибудь! — резко говорю я. Едва дело доходит до родственников жены, как настроение у нас обоих безнадежно портится.
Жить — страшно трудно. Со всех сторон стягивают тебя цепи, едва шевельнешься — кровь брызнет струей.
Я молча встаю, достаю из ящика стола пакет с рукописью, сую в рукав кимоно, завязываю в черное фуросики разлинованную бумагу, словарь и с безразличным видом ухожу из дома.
Мне уже не до работы. В голове одна мысль — в петлю или в воду. И я иду прямой дорогой туда, где можно выпить.
— Милости просим!
— Выпьем! Сегодня на тебе опять чертовски красивое кимоно.
Нравится? Я знала, что в полоску — твое любимое.
— Сейчас с женой поссорился. До смерти надоело сидеть взаперти. Выпьем. Сегодня останусь ночевать. Останусь, и все тут!
Родителей надо ставить выше детей, считаю я, но куда уж таким родителям до детей…
Подали вишни.
В нашей семье детям не перепадает лакомств. Вишен они, пожалуй, и не видывали. Угостить ребят — вот будет им радость! Ахнут, когда придет отец, надев на шею, наподобие кораллового ожерелья, связанные ниткой веточки вишен.
Но отец ест набухшие кровью вишни, ест с отвращением и выплевывает косточки, а в душе упрямо и вызывающе звучит: «Родителей надо ставить выше детей».
ЖЕНА ВИЙОНА
Меня разбудил громкий звук быстро раздвинутой двери в передней. Но я не встала — я знала, это пришел муж. Он всегда возвращался домой поздно, и пьяным. Тяжело дыша, он зажег в соседней комнате свет и вдруг начал лихорадочно рыться в письменном столе и книжном шкафу, будто что-то искал там. Затем он тяжело опустился на татами, до меня донеслось его прерывистое дыхание. «Что он там делает?» — недоумевала я.
— Это ты? — окликнула я мужа. — Ты голоден? Если хочешь поесть, ужин в буфете.
— Да-а? Спасибо, — неожиданно ласково проговорил он. — Как себя чувствует наш малыш? Температура еще держится?
Этот вопрос удивил меня. Нашему мальчику в будущем году должно было исполниться четыре года, но то ли от недоедания, то ли по причине наследственности — муж мой очень пил, — то ли потому, что мальчик вечно болел, ростом он был меньше двухлетнего ребенка. Он едва умел ходить и почти ничего не говорил, из его ротика вырывались лишь отдельные звуки: ума, ума, ия, ия! Мне казалось, что он слабоумный. Когда я ходила с ним в баню, раздевала и брала его на руки, каким худеньким и некрасивым он выглядел! Жгучие слезы наполняли мои глаза, и я плакала, не стесняясь людей. Кроме того, у него часто повышалась температура или болел желудок. А мужу до этого, казалось, не было никакого дела, он почти не бывал дома, и я совсем теряла голову. Если я говорила ему, что мальчику снова плохо, он равнодушно отвечал: «Да? Надо бы показать его врачу», потом надевал свою крылатку и уходил. Но денег на врача не было, и мне ничего не оставалось, как только лечь рядом с малышом и молча гладить ею по головке.
И вдруг мой муж спросил о здоровье сына? Это было настолько необычным, что вместо радости мною овладело тревожное чувство, словно мороз пробежал у меня по спине. Я настолько растерялась, что не знала даже, что ответить.
— Можно войти? — раздался в этот момент за дверью высокий женский голос.
Я вздрогнула, словно меня окатили холодной водой.
— Добрый вечер, Отани-сан! — проговорил тот же голос более решительным тоном, и я услышала, как заскрипела в передней дверь.
— Отани-сан, вы дома? — в голосе незнакомки послышались сердитые нотки.
Только после этого муж вышел в переднюю.
— В чем дело? — спросил он.
— Как «в чем дело»? — повторила женщина. — Такой приличный дом, а вы занимаетесь воровством! Прекратите эту неуместную шутку и верните, пожалуйста, то, что вы взяли. Иначе я заявлю в полицию!
— Что?! Да как ты смеешь?! Вон отсюда, а то я сам обращусь в полицию!
В это время послышался мужской голос:
— Ну, знаете, это уже наглость! Что это за «вон отсюда»! Здорово, ничего не скажешь! Так это, оказывается, не шутка! Как же можно так нахально хапать чужие деньги, это уж слишком! Мы и так натерпелись из-за вас, и вот вы нас отблагодарили. Не думал я, что вы окажетесь таким.
— Это шантаж! — срывающимся голосом крикнул муж. — Убирайтесь вон! Если вам что-нибудь нужно, приходите завтра!
— Ах, вот как! Выходит, вы действительно жулик! Что ж, придется идти в полицию.
Мне стало страшно — в голосе мужчины уже слышалась злость.
— Можете идти! — крикнул муж, но в его тоне не было прежней уверенности.
Я встала, накинула на халат короткое кимоно, открыла дверь в переднюю и поздоровалась.
— Добрый вечер!
— О, это вы, хозяйка.
В передней стояли мужчина и женщина. Мужчине было лет пятьдесят, он был одет в короткое пальто. Он поклонился в ответ на мое приветствие, но его лицо хранило сердитое выражение. Его спутнице было лет сорок, это была худощавая, невысокая женщина.
— Извините, что мы так поздно, — сухо сказала она и сняла с головы платок.
В этот момент муж, быстро надев гэта, попытался выскользнуть на улицу.
— Нет, постойте, вы куда?!
Мужчина крепко схватил мужа за плечо.
— Пусти, а то…
В правой руке у мужа блеснул нож. Этот нож у него всегда лежал в письменном столе. Видимо, его-то он и искал, когда вернулся домой; он, вероятно, предвидел, что дело может обернуться плохо.
Мужчина отступил. Воспользовавшись этим, муж, размахивая руками, словно ворона крыльями, выбежал на улицу.
— Держи вора! — громко закричал мужчина, бросаясь вслед за ним. Но я моментально выскочила в переднюю и, обхватив мужчину руками, задержала его в дверях.
— Умоляю вас, остановитесь! Он может еще ранить вас! Я все улажу сама.
— В самом деле, — сказала испуганно женщина. — Он сейчас словно сумасшедший — еще натворит чего-нибудь!
— Черт возьми! Надо позвать полицию! Больше терпеть нельзя! — как бы рассуждая сам с собой, проговорил мужчина и посмотрел через дверной проем в темноту. Он как-то сразу обмяк.
— Простите меня, расскажите, что случилось? — Я поднялась, вошла в комнату и присела на корточки. — Может быть, я смогу все уладить. Входите, пожалуйста. Правда, у нас такой беспорядок…
Они переглянулись.
— Все равно вы нас не уговорите, — сказал мужчина. — Но все же я вам расскажу, что произошло.
— Пожалуйста, прошу вас, проходите!
— Нам вообще-то некогда, но, видимо, все же… — мужчина стал снимать пальто.
— Пожалуйста, не снимайте. У нас холодно. В доме ничего не топится.
— Тогда извините, что я войду в пальто.
— Вы тоже не раздевайтесь, — обратилась я к женщине.
Мужчина и женщина прошли за мной в комнату мужа.
Крайне запущенный вид комнаты — порванные татами,
поломанная ширма, ободранные обои, обветшалое фусума, неказистый письменный стол и совсем пустой книжный шкаф — по-видимому, чрезвычайно поразил их. Я не могла предложить им ничего, кроме старого дзабутона, из которого местами уже вылезала вата.
— Пожалуйста, возьмите хоть такой. Татами не совсем чистое, — как бы извиняясь, сказала я и снова приветствовала их поклоном. — Я очень рада с вами познакомиться. Право, не знаю, как мне еще извиниться перед вами, мой муж, как я догадываюсь, причинил вам много неприятностей. Да еще угрожал вам. Знаете, он человек со странностями… — проговорила я, но тут какой-то комок подступил у меня к горлу, и я не могла продолжать.
— Простите, хозяйка, сколько вам лет? — спросил мужчина, повернувшись ко мне. Он сидел на подушке, скрестив, ноги, облокотясь руками о колени и подперев подбородок ладонями.
— Мне?
— Да. Если не ошибаюсь, вашему мужу уже лет тридцать, правда?
— Да. А я… на четыре года моложе.
— Тогда вам примерно двадцать… шесть. Как все это ужасно! Такие молодые.
— Я тоже удивилась, когда увидела вас, — сказала женщина, выглядывая из-за плеча мужчины. — У Отани-сан такая прекрасная жена. Почему же он себя так ведет?
— Он больной, видно, очень больной. Раньше он до этого не доходил, а сейчас совсем опустился.
Мужчина глубоко вздохнул.
— Знаете, хозяйка! — продолжал он другим тоном. — Мы с женой содержим маленький ресторан около станции Накано. Оба мы из Дзёсю, и я в свое время там был честным торговцем. Лет двадцать назад мне наскучило быть деревенским торгашом, потянуло к городской жизни. Мы с женой переехали в Токио и нанялись в один крупный ресторан. Отказывая себе во всем, мы накопили немного денег и в тысяча девятьсот тридцать шестом году, сняв около теперешней станции Накано небольшой двухкомнатный домик, открыли там недорогой ресторанчик, где посетители могли бы провести время за одну-две йены. Мы экономили на всем и усердно трудились. Это помогло нам в свое время создать хороший запас джина и других напитков. Поэтому, когда с вином стало плохо, это не застало нас врасплох, и не в пример другим мы продолжали принимать посетителей. Некоторые из наших постоянных клиентов стали даже помогать нам понемножку доставать вино, которое продавали тогда только военным. Детей у нас не было. И заботиться нам было не о ком. Когда началась война с Америкой и Англией, и бомбежки становились все сильнее и чаще, мы не захотели эвакуироваться
в деревню, а решили продолжать торговлю. Война для нас, слава богу, кончилась благополучно. Мы вздохнули свободнее и, закупив на черном рынке большую партию вина, продолжали торговлю. Вот и вся наша история.
Вам может показаться, что нам все легко удавалось. Но жизнь человека — это ад, и верно говорят, что в жизни зла больше, чем добра, что за маленьким счастьем всегда приходит большое несчастье. Счастлив тот, у кого хоть один день в году проходит без особых забот.
Эго началось, кажется, весной сорок четвертого года, когда Отани-сан впервые появился в нашем ресторане. Тогда, казалось, войну мы еще не проигрывали. Хотя, может быть, и проигрывали, но не знали истинного положения дел. Мы думали, что пройдет два-три года и все помирятся на равных условиях.
Ну вот, когда Отани-сан впервые появился у нас, он был, как мне помнится, одет в крылатку. Тогда многие так одевались. В те дни в Токио еще мало кто носил униформу. Поэтому мы не заметили в его одежде ничего особенного. Отани-сан пришел не один. Вы меня извините, я буду говорить откровенно. Ваш муж зашел к нам через черный ход с одной молодой женщиной.
В те времена парадный ход нашего ресторана всегда был закрыт — это называлось
«торговлей при закрытых дверях». Наши постоянные клиенты приходили к нам всегда через черный ход, и пили они не в общем зале, а в отдельной комнате, без шума, при слабом освещении.
Молодая женщина, с которой был Отани-сан, служила до этого в одном баре в Синдзюку и обычно приводила к нам хороших клиентов. Почти все потом становились завсегдатаями нашего ресторана. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Жила она рядом с нами. Поэтому, когда бар в Синдзюку закрылся и она осталась без работы, она стала частенько приходить со своими знакомыми к нам. Но к этому времени запасы сакэ у нас сильно поубавились, и мы уже не особенно радовались новым клиентам, какими бы хорошими они ни были. Наоборот, это начинало нас беспокоить. Но мы не показывали вида и принимали ее гостей, потому что были ей обязаны. Вот почему, когда Аки-тян, так звали эту женщину, пришла к нам с вашим мужем, мы приняли их и подали им вино, как обычно, без всяких подозрений. В тот вечер Отани-сан вел себя вполне прилично, полностью рассчитался и ушел с Аки-тян тем же путем.
У меня до сих пор в памяти остались его благородные манеры и сдержанное поведение. Неужели злой дух всегда принимает такой скромный и невинный облик, когда впервые проникает в чужой дом? С того вечера Отани-сан и приметил наш ресторан. Примерно дней через десять он опять пришел, на этот раз один, и вдруг ни с того ни с сего вытащил из кармана сто йен и протянул их мне. Это для того времени было большой суммой, пожалуй, сто йен тогда стоили столько же, сколько стоят сейчас три тысячи. Он совал деньги мне в руки и застенчиво улыбался: «Прошу вас, возьмите». Мне показалось, что он был здорово навеселе.
Вам, наверное, известно, что пить он горазд. Бывало, кажется, 4to уже совсем пьян, но вдруг как ни в чем не бывало становится серьезным, начинает рассуждать здраво, будто и не брал хмельного. Мы ни разу не видели, чтобы он, например, шатался. Конечно, тридцатилетний мужчина в расцвете своих сил может выпить много, но редко кто выпивал столько, сколько Отани-сан. Так вот, в тот вечер он где-то уже основательно выпил, однако у нас добавил еще. Мы пытались заговорить с ним, но он в ответ только застенчиво улыбался и неопределенно поддакивал. Потом он встал и спросил, который час. Когда я протянул ему сдачу, он отрицательно замотал головой:
— Нет, нет, что вы!
Я стал настаивать:
— Так нехорошо! Возьмите сдачу!
Тогда он ответил с улыбкой:
— Пусть будет за вами. Я еще приду. — И ушел. Это первый и последний раз, когда он заплатил. После под всякими предлогами он обманывал нас. За три года он выпил почти весь запас нашего вина и не заплатил ни йены. Это же возмутительно!
Я невольно рассмеялась. На меня вдруг напал беспричинный смех. Спохватившись, я тут же прикрыла рот. На лице мужчины появилась горькая усмешка.
— Смеяться тут нечему, хотя невольно делается смешно, ведь все это очень глупо выглядит. В самом деле, прояви он такие способности в чем-нибудь другом, более достойном, он мог бы стать кем угодно — даже министром, а то и доктором. Да разве одни мы пострадали? Он разорил не одних нас. Нам известно, что та же Аки-тян из-за него растеряла всех своих богатых покровителей, осталась без денег и живет сейчас, как нищая. А тогда и она превозносила его, сколько хорошего о нем рассказывала! Ведь он, говорила она, очень знатного происхождения, второй сын барона Отани, что живут на Сикоку. Правда, его выгнали из семьи за распутную жизнь, но ведь, как только его отец умрет, он получит богатое наследство! Она уверяла, что он необыкновенно умный, талантливый человек. В двадцать один год будто написал книгу, да какую, получше, чем писал Исикава Такубоку[Исикава Такубоку — известный японский писатель-классик.] . А после того еще штук десять написал. Хоть он еще и молодой, а уже считается лучшим поэтом Японии. Вдобавок он еще и ученый, закончил лучшую высшую школу, а потом императорский университет, знает немецкий,
французский. В общем, чуть ли не бог. Правда, кой-кто говорит, что это не так, хотя поэтом и бароном он мог и быть. Вот что говорила Аки-тян. Да что там Аки-тян! Вон моя жена — это в ее-то годы — и то с нетерпением ждала его всякий раз. Мол, он аристократ. Правда, сейчас этих аристократов уже не признают, а раньше стоило мужчине сказать женщине, что он незаконный сын какого-нибудь аристократа, она уже и готова. Вот тут невольно подумаешь, что баба любит быть рабой. А я что, я всего повидал на своем веку, меня ничем не удивишь. Подумаешь, аристократ, да еще с Сикоку, чем я, извините, хуже его? А он к тому же еще и не первый сын.
И все же я ничего не мог поделать. Сколько раз решал не давать ему больше ни рюмки! Но каждый раз, когда он неожиданно появлялся у нас, я забывал о своем решении. Ведь даже пьяный он никогда не шумел. Эх, пусть бы пил себе на здоровье, лишь бы платил. Ведь какой хороший клиент был бы. Сам он никогда о себе ничего не говорил, а если Аки-тян при нем начинала восхвалять его таланты, он сразу это пресекал:
— Денег надо достать. Я хочу расплатиться с хозяином, — и быстро уходил.
Сам он никогда не платил. Иногда за него расплачивалась Аки-тян, а иногда — другая женщина, о ней Аки-тян не знала.
Та, другая, видно, была замужем. Она с Отани-сан приходила не часто, но платила за него даже больше, чем полагалось. Мы — торговцы, поэтому всегда на что-то надеемся, а то разве можно поить клиента задаром, будь он хоть сын императора. Но все же я терпел убыток — эти расчеты от случая к случаю меня не устраивали. Вот почему, услышав, что у Ота-ни-сан есть порядочная жена, я решил при случае зайти к ней и получить долг. Но, когда я пытался узнать точный адрес, он сразу догадался, для чего это мне нужно.
— Только попробуй пойти! На нет — и суда нет. Зря беспокоишься. Имей в виду, если мы с тобой поссоримся, тебе же будет хуже.
И все же мы несколько раз пытались узнать его адрес, следили за ним, но он всегда очень ловко уходил от нас. В то время Токио бомбили чуть ли не каждый день, на улицах творилось бог знает что, где же там уследишь его.
Потом Отани-сан стал приходить в военной форме, крылатку снял. Он стал наглеть все больше и больше — придет, подходит к буфету, берет бутылку, выпьет прямо из горлышка к будь здоров.
Когда война кончилась, мы закупили на черном рынке большую партию вина и продуктов, вход в ресторан украсили новыми шторами. И даже наняли молодую девушку, чтобы привлекать посетителей. И нас снова стал посещать этот демон. Теперь он приходил без женщин, зато всегда приводил с собой приятелей-журналистов, они утверждали, что время военных прошло, что настало время поэтов, которые прежде жили в нищете и безвестности. Отани-сан в спорах щеголял такими заковыристыми словечками, что я, извините, совершенно ничего не понимал. А когда спор разгорался, он незаметно вставал и уходил. Приятели, спохватившись, недоумевали:
— Куда он исчез? Нам тоже, пожалуй, пора, — и собирались уходить.
Тогда я их останавливал:
— Одну минуточку! Тот господин всегда себе на уме. А вам придется уплатить.
Некоторые собирали деньги в складчину и расплачивались, а некоторые обижались:
— Пусть Отани платит, он нас приглашал, откуда у нас деньги, на пятьсот йен в месяц не особенно разойдешься.
Но я отвечал на это:
— Нет, господа! За Отани-сан накопилось уже столько, что если вы поможете мне получить с него хотя бы часть долга, я поделюсь с вами пополам.
У тех от изумления вытягивались лица.
— Что вы говорите?! Не думали мы, что он такой ловкач! Теперь мы черта с два будем с ним пить! Но сейчас у нас и сотни не наберется. Вот, возьмите пока в залог, а завтра мы донесем, — и решительным жестом они скидывали с плеч свои пальто.
Я вам вот что скажу: хотя в народе журналисты считаются непорядочными людьми, но они гораздо порядочнее Отани-сан. И если он действительно второй сын барона, то журналисты тогда достойны быть первыми сыновьями князей.
После войны Отани-сан стал пить еще больше, лицо у него огрубело, с губ часто срывались похабные шутки, не раз он затевал драки. А в довершение всего соблазнил служившую у нас девушку, а ей тогда и двадцати еще не было. Ну как тут было не рассердиться. Однако делать было нечего, что сделано, то сделано. Девушку мы успокоили и потихоньку отправили ее в деревню к родителям.
Вскоре я сказал Отани-сан:
— Мне от вас ничего не надо. Только, ради бога, не приходите больше к нам.
Знаете, что он мне ответил?
— Интересно, — говорит, — какое ты имеешь право заявлять это мне, у тебя у самого рыльце в пушку! Учти, мне все известно, — разумеется, он и не думал оставлять нас в покое.
Понимаете, мы, как и многие другие, занимались в войну мелкими спекуляциями, и Отани-сан это знал. Но, помилуйте, неужели из-за этого мы теперь должны были по гроб терпеть его у себя?!
Но после того, что случилось сегодня вечером, мне наплевать, кто он — аристократ или поэт. Для меня он просто вор. Вы знаете, что сегодня он украл у нас пять тысяч? Откровенно говоря, в доме мы таких денег не держим, на деньги мы сейчас же покупаем продукты, но сегодня вечером у нас было пять тысяч. Приближается конец года, и мы обошли всех своих клиентов, чтобы получить долги. Сегодня вечером мы должны были внести их нашим поставщикам, иначе мы останемся без продуктов и будем вынуждены закрыть ресторан. Так вот, жена положила эти деньги в шкаф.
Отани-сан сидел в это время в зале один и все видел. И вдруг он встал, подошел к шкафу, оттолкнул мою жену, сгреб деньги и запихнул их в карман. Пока мы стояли разинув рот, он спокойно спустился вниз — только тут его и видели. Наконец я пришел в себя и бросился вместе с женой за ним вдогонку. На улице я хотел было крикнуть: «Держи вора!» — чтобы с помощью прохожих поймать его. Но, ведь, что ни говорите, Отани-сан — наш знакомый, и я не стал позорить его. На этот раз мы решили следовать за ним, что бы ни случилось, точно узнать дом, где он живет, и по-хорошему попросить вернуть деньги. Мы ведь всего-навсего беззащитные торговцы, поймите нас.
И вот наконец с большим трудом нам удалось выследить его. Все у нас так и кипело от негодования, но все же, как вы, вероятно, слышали, мы вежливо попросили его вернуть деньги. А он — на что это похоже — даже ножом угрожал.
Я снова почувствовала, что смех начинает душить меня, я невольно засмеялась. Жена торговца смущенно улыбалась. Я смеялась долго, хотя прекрасно понимала, что это производит дурное впечатление, но что поделать — я не могла остановиться. Не знаю, что имел в виду муж, когда написал свое стихотворение «Смех после гибели», но оно почему-то мне неожиданно вспомнилось сейчас.
Однако я понимала, что положение очень серьезное и тут одним смехом не отделаешься. Подумав немного, я сказала:
— Хорошо. Все это я сама улажу. Подождите еще один день, до завтра. Пока не ходите в полицию. А завтра я сама приду к вам.
Я с трудом уговорила ресторатора согласиться с моим предложением.
Они ушли, а я долго еще сидела на полу одна в пустой и холодной комнате, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Но в голову не приходило ни одной удачной мысли. Я поднялась, скинула халат, легла под одеяло рядом с моим мальчиком и, гладя его по головке, просила бога, чтобы это завтра никогда не наступило.
В свое время в Токио, в парке Асакуса, около пруда, мой отец содержал уличное кафе с национальными блюдами. Мать моя умерла рано. Вдвоем с отцом мы жили в небольшой комнате одноэтажного домика и вдвоем же трудились в своем кафе. Мой теперешний муж часто посещал в то время наше кафе. Тайком от отца я стала с ним встречаться. Когда я почувствовала, что должна стать матерью, я растерялась — что ждет меня теперь.
В конце концов я очутилась на положении его жены. Конечно, свои отношения мы юридически не оформили, и наш мальчик считается незаконнорожденным. Муж мой часто пропадал на несколько дней, случалось, что я его не видела целый месяц; где он, что он делает — я не знала. Возвращался он домой всегда пьяным, с бледным дрожащим лицом. Иногда он молча смотрел на меня, и крупные слезы текли у него по щекам. А иногда вдруг крепко прижимал меня к себе и, дрожа всем телом, лихорадочно шептал:
— Нет, так больше нельзя! Страшно! Понимаешь ли ты, страшно! Мне страшно! Помоги мне!
Всю ночь затем он стонал, бредил, а наутро вставал совершенно разбитый, опустошенный. Потом снова куда-то исчезал, и снова я его не видела несколько дней подряд. Только благодаря тому, что два-три старых знакомых мужа по издательству изредка приносили мне деньги, мы с сыном не умерли от голода…
Я забылась в тяжелом полусне, а когда открыла глаза, с улицы уже пробивались в окно первые лучи восходящего солнца. Я встала, привела себя в порядок, усадила мальчика на спину и вышла на улицу. Я чувствовала, что больше не могу оставаться дома.
Без определенной цели направилась я в сторону вокзала. В лавке перед вокзалом я купила мальчику еды. И тут, как бы очнувшись, я села на трамвай в направлении Китидзёдзи. Взявшись за ручку, я случайно бросила взгляд на потолок вагона, там висело рекламное объявление, на котором стояла фамилия моего мужа. Это было объявление журнала, в котором муж опубликовал большую статью под названием
«Франсуа Вийон». Я читала название статьи, фамилию мужа, и вдруг горячие слезы стали застилать мне глаза. Объявление стало мутнеть, расплываться, а потом исчезло совсем.
Я сошла у Китидзёдзи побродить по парку Иногасира. Около пруда уже совсем не осталось криптомерий, их вырубили, словно здесь собирались что-то строить. При виде этого мною вдруг овладело тоскливое чувство пустоты.
Сняв ребенка со спины, я присела на полуразваленную скамейку у пруда и дала сыну немного батата.
— Посмотри, какой красивый пруд! — сказала я сыну. — Только раньше здесь было много-много золотых рыбок, а теперь их нет.
Он ничего мне не ответил, не спросил. Не знаю о чем. думал в этот момент мальчик. Набив рот бататом, он вдруг как-то странно засмеялся. Вот ведь родной сын, а в ту минуту он показался мне полным идиотом.
Однако, сколько тут ни сиди, делу этим не поможешь. Я взяла ребенка опять на спину и медленно побрела на станцию, разглядывая по дороге оживленную улицу с многочисленными лавками. Так, ничего не придумав, я взяла билет до Накано, а потом пошла по той улице, где должен был находиться ресторанчик моих вчерашних знакомых.
Вход в ресторанчик был закрыт, я обошла дом кругом и зашла через черный ход. Хозяина не было. В зале была одна хозяйка. Встретившись с ней глазами, я совершенно неожиданно для себя начала врать:
— Послушайте! Мне кажется, я смогу вам полностью вернуть ваши деньги. Если не сегодня вечером, то завтра— обязательно. Так что не волнуйтесь.
— Что вы говорите?! Это было бы замечательно! Большое спасибо! — радостно воскликнула женщина, ноя заметила, что на ее лице все же осталась тень недоверия.
— Поверьте, это правда. Деньги вам принесет один человек, а до его прихода я останусь у вас, как заложница. Теперь вы верите? А пока я буду помогать вам.
Сняв ребенка со спины, я усадила его в жилой комнате на татами, а сама принялась за работу. Мальчик привык бывать один, поэтому нисколько не мешал мне. Он был так еще глуп, что не отличал даже своих от чужих, он радостно смеялся и хозяйку принимал за меня. Когда я, получив по карточкам продукты, вернулась в ресторан, он играл пустой консервной банкой от американской тушенки.
Около полудня с рыбой и овощами вернулся хозяин. Ему я сказала то же, что сказала его жене. Выслушав меня, он нравоучительным тоном заметил:
— Знаете ли, госпожа, деньги — это такая штука, что пока не будешь держать их в собственных руках, до тех нор сомнения не покинут душу.
— Нет, я говорю вам правду! Прошу вас, обождите до завтра. А пока я буду помогать вам.
— Как хорошо вернуть бы эти деньги, — сказал он, будто рассуждая сам с собой. — А то ведь через несколько дней кончается год…
— Вот почему я… О, гости!.. Здравствуйте! — Я улыбнулась вошедшим посетителям. Это были, вероятно, рабочие.
— Дайте мне, пожалуйста, передник, — тихо сказала я хозяйке.
— Ого! Какую красавицу наняли! — воскликнул один из посетителей.
— Ну, вы не очень-то! — нарочито серьезно сказал хозяин. — Она стоит больших денег.
— Выходит, племенной рысак в миллион долларов? — цинично заметил другой посетитель.
— Не горюй, говорят, если рысак — кобылица, он идет в полцены, — в тон ему бросила я, разливая по стаканам сакэ.
— Ну зачем же. Говорят, что у нас скоро будет полное равенство для всех, даже для лошадей и собак, — вмешался в разговор самый молодой из посетителей. — А я, знаете, сразу в вас влюбился, с первого взгляда. А это что? У тебя уже есть ребенок?
— Это не ее, — ответила хозяйка, входя в зал с мальчиком на руках. — Этого ребенка мы взяли у своих родственников. Теперь и у нас есть наследник.
— А значит, и деньги есть.
— Как бы не так! Одни долги, — проворчал хозяин и, сразу изменив тон, любезно сказал:
— Что вам подать?
Насколько мне помнится, был канун рождества, может быть, поэтому посетители приходили один за другим. Хотя во рту у меня с утра не было ни крошки, но безрадостные мысли совсем отбили у меня аппетит. Даже когда хозяйка любезно предлагала мне перекусить, я отвечала:
— Спасибо, я сыта, — и продолжала обслуживать посетителей.
Может быть, это не скромно, но мне казалось, что это из-за меня в ресторане в тот день царило такое оживление, тем более что многие посетители заигрывали со мной, интересовались моим именем, назначали свидания.
«Однако чем это все кончится? — думала я. — Надежды никакой». Улыбаясь, я отвечала на грубые шутки посетителей, грубо шутила сама, кокетничала, разливая сакэ. А у самой на душе скребли кошки, мне хотелось, чтобы мое тело стало бесплотным, растворилось в воздухе.
И все же на свете иногда случаются чудеса.
Это было примерно в десятом часу. В ресторан вошел мужчина в маскарадной рождественской треуголке из бумаги и в черной, как у Арсэна Люпэна[Герой детективных романов французского писателя Мориса Леблана.] , полумаске. С ним была худощавая интересная дама лет тридцати пяти. Мужчина сел в углу зала спиной ко мне. Однако я сразу узнала его, едва он показался в дверях: это был мой муж — вор!
Очевидно, он не заметил меня, а я, притворяясь, что тоже не знаю его, флиртовала с посетителями. Через минуту дама, сидевшая с мужем, окликнула меня:
— Подойдите к нам!
— Слушаю! — отозвалась я и подошла к их столику. — Добрый вечер! Вам сакэ?
Метнув на меня быстрый взгляд из-под полумаски, муж явно удивился, я легонько похлопала его по плечу и спросила шутливо:
— Ну, как рождество? Или как это говорят в таких случаях? Мне кажется, вы в состоянии выпить еще немало.
Дама не поддержала шутки и, придав лицу строгое выражение, проговорила:
— Слушайте, барышня! Будьте добры, позовите сюда хозяина, нам нужно поговорить с ним.
Я пошла на кухню к хозяину, который в это время что-то жарил на плите.
— Отани-сан пришел! Идите к нему, но обо мне ничего не говорите. Мне не хочется ставить Отани в неловкое положение.
— Пришел все-таки!
Если до сих пор хозяин не совсем верил мне, то теперь он, видимо, решил что это благодаря мне Отани пришел сюда.
— Так вы обо мне ничего не говорите, — еще раз попросила я.
— Если так нужно, мне нетрудно это выполнить, — согласился хозяин.
Войдя в зал, он направился прямо к столику мужа. Обменявшись несколькими словами, все трое вышли из ресторана.
«Теперь все в порядке!» — Мне почему-то хотелось верить, что все кончится благополучно. От радости я крепко схватила за руку молоденького парнишку лет двадцати, одетою в темно-синее узорчатое кимоно, и сказала:
— Давайте выпьем! Сегодня же рождество!
Через каких-нибудь полчаса, а может быть, и раньше хозяин вернулся. Он подошел ко мне и сказал с довольной улыбкой:
— Спасибо вам. Я получил свои деньги.
— Правда? Слава богу! Все?
Он как-то странно улыбнулся:
— Нет, только вчерашние.
— Сколько же всего за ним?
— Двадцать тысяч.
— И это все?
— Да, я сделал большую скидку.
— Хорошо. Эти верну я. Только разрешите мне работать у вас. Я заработаю и верну вам все.
— Вот это здорово! Да вы прямо-таки волшебница!
Мы оба расхохотались.
Около одиннадцати часов я покинула ресторан и вернулась домой. Мужа, как всегда, еще не было, но я была спокойна. Завтра я опять пойду в ресторан и, может быть, снова его увижу. Я удивлялась, как до сих пор мне не приходило это в голову. Когда-то в отцовском кафе я очень хорошо обслуживала посетителей; почему бы мне не испробовать свои способности еще раз? Ведь за один только сегодняшний вечер я заработала пятьсот йен чаевых!
Из рассказа хозяина я узнала, что вчера ночью мои муж отправился ночевать к кому-то из своих знакомых, а сегодня с самого раннего утра зашел в бар в Кёбаси, который содержит та самая женщина, что была с ним. Там он пил виски и без счета сорил деньгами, раздаривая их девушкам из бара в виде рождественских подарков. Около полудня он вызвал такси и уехал куда-то, но вскоре вернулся, неся с собой треуголку, маску, праздничный торт и даже целую индюшку; потом пригласил своих знакомых, и начался грандиозный пир. Хозяйка бара заинтересовалась, откуда у него такие деньги, ведь она знала, что у него никогда их нет. Тогда муж чистосердечно признался ей во всем.
Это женщину не устраивало, а вдруг дело дойдет до полиции! А Отани — ее близкий знакомый, это скомпрометирует и ее. Она настойчиво советовала ему вернуть деньги, а потом заставила показать ей дорогу в Накано и сама заплатила за него. Закончив рассказ, хозяин сказал:
— В общем, я так и думал. Но вы-то как ловко все устроили. Вы, наверное, действовали через его друзей, просили повлиять на него?
Видимо, хозяин думал, что я и впрямь пришла заранее в ресторан, чтобы дождаться мужа. Я не стала разуверять его и ответила:
— Да, конечно…
Моя жизнь изменилась — она стала радостнее, светлее. На другой день я зашла в парикмахерскую, сделала прическу, купила духи, пудру и помаду. Я привела в порядок кимоно, а хозяйка подарила мне две пары белых носков. Казалось, все пошло на лад.
Утром, позавтракав, я сажала ребенка на спину, брала с собой обед и отправлялась на работу.
Наступили горячие дни — канун Нового года. Посетители ресторана прозвали меня Саттян; и эта Саттян целый день как угорелая носилась то туда, то сюда, так что к вечеру у нее голова шла кругом. Почти через каждые два дня в ресторане появлялся муж. Он пил, а я расплачивалась. Иногда он не показывался несколько дней, а иногда тихо спрашивал меня:
— Поедем домой?
Я соглашалась и с радостным чувством уходила вместе с ним.
— Ты знаешь, — говорила я ему по дороге, — я теперь очень счастлива! И почему я не догадалась поступить так с самого начала?
— У женщины не бывает ни счастья, ни несчастья.
— Ты думаешь? Впрочем, тебе виднее. А у мужчины?
— У мужчины бывает только несчастье. Он всегда борется со страхом.
— Я тебя не понимаю, но все равно мне хорошо. И какие чудесные люди хозяева ресторана!
— Дураки! Деревня! И жадные, как шакалы. Сперва споили меня, а теперь еще хотят на мне заработать!
— В этом нет ничего странного! Ведь они торговцы! К тому же ты, кажется, с его женой был близок?..
— Это было давно. А что, он разве знает?
— Наверное, знает. Как-то он сказал: «И любовницу здесь завел и долги наделал»…
— Знаешь, может, тебе это будет и неприятно, но мне иногда так хочется умереть! Я давно об этом думаю, да и для других это было бы лучше. Правда? А я вот никак не могу на это решиться. Будто какая-то страшная сила удерживает меня.
— Твоя работа!
— Работа — чепуха! Ты думаешь, что существуют какие-либо великие или бездарные творения? Глупости. Тебе нравится — значит, хорошо, нет — значит, плохо. Как, например, воздух, который вдыхают и выдыхают наши легкие. А самое страшное, что где-то на этом свете есть бог. По-твоему, есть бог?
— Что?
— Есть ли бог, по-твоему?
— Не знаю.
— Не знаешь?
Прошло несколько дней, и мне стало казаться, что все, кто приходит к нам в ресторан, — это одни жулики. «Боже! — подумала я, — ведь мой муж по сравнению с ними почти святой. Да что посетители! Все, кого я вижу кругом, стараются скрыть от чужих глаз какие-то свои ужасные преступления».
Однажды к нам зашла, с черного хода, конечно, хорошо одетая дама лет пятидесяти. Она, не стесняясь, предложила нам сакэ по триста йен за литр. Хозяйка купила, потому что запрошенная цена была намного ниже рыночной. Но вместо сакэ эта дама продала воду. «Может быть, на свете нельзя жить честно, — подумала я. — Такая на вид благородная дама, а идет на подобную низость! А может быть, мораль этого мира вообще сводится к карточной игре, где проигрышная карта вдруг неожиданно выигрывает?»
О господи, если ты существуешь, покажи себя!
В последних числах января один посетитель нанес мне тяжелую обиду.
В тот вечер шел дождь. Мой муж не появлялся. Зато к нам зашел его старый товарищ по издательству Ядзима-сан, который и прежде изредка навещал меня и приносил мне деньги. Его сопровождал незнакомый мужчина лет сорока. Заказав сакэ, они начали громко спорить, хорошо или плохо, что жена Отани-сан пошла работать в ресторан? Я, смеясь, спросила:
— А где именно она работает?
— Не знаю, но она значительно изысканнее и интереснее вас, — ответил мне Ядзима-сан.
Тогда в свою очередь пошутила я:
— Вот как! Тогда я ревную! Интересно было бы провести хоть один вечер с ее мужем! Я люблю иногда позабавиться.
— Нет! Вы послушайте только, что она говорит! — Ядзима-сан повернулся к собеседнику и состроил смешную гримасу.
К этому времени многие журналисты, которые приходили к нам с моим мужем, знали, что я — жена поэта Отани. Некоторые даже специально забегали в ресторан посмотреть на меня. Впрочем, все это только шло на пользу дела, и хозяин был доволен.
В тот вечер Ядзима-сан, кажется, довольно удачно заключил сделку на покупку бумаги с черного рынка и ушел в одиннадцатом часу. Дождь все еще шел. Я уже не надеялась, что увижу мужа, и начала собираться домой. Разбудив ребенка, я тихонько положила его к себе на спину и сказала хозяйке:
— Разрешите, я возьму ваш зонтик?
— Вам нужен зонтик, возьмите, пожалуйста, мой. Я провожу вас, — с серьезным видом предложил мне, поднимаясь из-за стола, один посетитель. Это был парень лет двадцати пяти, худощавый, небольшого роста, похожий на заводского рабочего. Я его видела впервые.
— Не беспокойтесь. Я привыкла ходить одна.
— Нет, я знаю, вы живете далеко. Я тоже живу в том районе и провожу вас. Хозяйка, получите с меня!
Он выпил только три чашечки сакэ и не казался мне пьяным.
Мы сели в трамвай. Когда мы вышли в Коганэи, дождь еще шел. Тесно прижавшись друг к другу под зонтиком, мы пошли по совершенно темной улице.
— Вы знаете, я поклонник вашего мужа, я сам немного сочиняю, — заговорил наконец мой провожатый. — Мне бы очень хотелось когда-нибудь встретиться с Отани-сан. Но я почему-то его побаиваюсь.
Мы подошли к моему дому.
— Большое вам спасибо. До следующей встречи!
— До свиданья! — Молодой человек повернулся и ушел.
Вскоре меня разбудил громкий звук раздвигаемой двери в передней. «Наверное, вернулся муж», — подумала я и решила не вставать. И вдруг послышался незнакомый мужской голос:
— Можно войти?
Я поднялась, зажгла свет и вышла в переднюю. В дверях стоял мой провожатый. Он трясся от холода и еле держался на ногах.
— Простите меня! Откровенно говоря, я живу не здесь, а в Татикава, а трамваи уже не ходят. Разрешите мне переночевать у вас. Мне не надо ни одеяла, ни матраца. Мне достаточно ступеньки в передней. Разрешите, до первого утреннего трамвая. Если б не дождь, я поспал бы где-нибудь под карнизом, но в такую погоду это невозможно. Я очень вас прошу!
— Это неудобно, мужа нет дома. Но, если вас устраивает ступенька, оставайтесь, пожалуйста, — согласилась я и вынесла ему два старых одеяла.
— Извините, я совсем пьян, — с трудом ворочая языком, проговорил мой гость и тут же повалился на пол. Когда я снова вернулась к себе, из передней уже доносился громкий храп.
А на рассвете он неожиданно овладел мной…
В то же утро я, взяв ребенка, отправилась на работу. В ресторане сидел мой муж. Он читал газету, перед ним стоял стакан вина. Луч утреннего солнца красивыми блестками сверкал на гранях стакана.
— Ты здесь один?
— Да. Хозяин ушел за покупками, а хозяйка только что вышла во двор. Ты с ней не встретилась?
— А ты приходил вчера?
— Приходил. В последнее время мне что-то не спится, если я не увижу тебя. Но, когда я пришел сюда, мне сказали, что ты уже ушла.
— И куда же ты пошел?
— Никуда. Я ночевал здесь. Ты же знаешь, какой вчера был дождь.
— Может, мне тоже ночевать здесь?
— Конечно.
— Вот и хорошо. И снимать ту комнату не надо будет. Муж ничего не ответил и снова углубился в чтение.
— Что ты скажешь! — вдруг воскликнул он. — Опять меня ругают. Пишут, что я лжеаристократ, что я эпикуреец. Это же ложь! Уж ежели я эпикуреец, то загнанный богом. Смотри, Саттян, пишут, что я изверг рода человеческого. Это тоже ложь, ты же об этом знаешь. Ну какой я изверг? Дело прошлое, теперь я могу признаться: те пять тысяч я взял, чтобы впервые за долгие годы моя Саттян и наш мальчик могли по-человечески встретить Новый год! Разве изверг поступил бы так?
Но мне было все равно. Пусть изверг, только бы жить.
ЛИСТЬЯ ВИШНИ И ФЛЕЙТА
«Я вспоминаю об этом каждый раз, когда опадают цветы вишни и на деревьях появляются листья…», — рассказывает старуха.
«Тридцать пять лет назад отец был еще жив, и мы жили втроем: он, я и младшая сестра. Мать умерла семью годами раньше, мне едва исполнилось тринадцать. Когда мне было восемнадцать, а сестре шестнадцать лет, отца назначили директором средней школы в город Сиросита на берегу Японского моря, и мы переехали туда. Подходящего дома для нас не нашлось, и мы сняли две комнаты в задних помещениях храма, одиноко стоявшего на окраине, у подножия гор. Там мы прожили шесть лет, пока отца не перевели в Мацуэ. В Мацуэ на двадцать пятом году своей жизни я и вышла замуж. По тем временам это был довольно поздний брак. Я рано осталась без матери. Отец, целиком поглощенный работой, был далек от житейских забот, и без меня хозяйство развалилось бы. Хорошо это понимая, я не решалась оставить семью и отклоняла все предложения. Если хотя бы сестра была здорова… Но, увы, эта совсем не похожая на меня, красивая, умная и славная девочка с длинными волосами постоянно болела, она умерла через два года после того, как мы переехали в Сиросита. Да, мне было тогда двадцать, а ей восемнадцать лет. Как раз об этом времени я и хочу рассказать.
Сестра была больна уже давно. У нее обнаружили очень скверную болезнь — туберкулез почек, но обнаружили слишком поздно, когда обе почки были поражены, и врач сказал отцу, что она не проживет и ста дней. Помочь ей уже ничто не могло. Прошел месяц, потом второй, приближался конец отпущенного ей срока, а нам оставалось только молча ждать. Сестра ничего не знала, была весела и, хотя в последние дни совсем не вставала с постели, беззаботно распевала какие-то песенки, шутила, ластилась ко мне. А у меня при одной мысли, что через каких-нибудь сорок дней все будет кончено, комок подступал к горлу, мучительная боль пронзала тело, казалось, что я не вынесу этого и сойду с ума. Прошли март, апрель, наступил май, все было по-прежнему. И вот — этот день в середине мая, мне никогда его не забыть.
Поля и горы сверкали молодой листвой, тепло было так, что хотелось скинуть с себя одежды. Яркая зелень ослепляла, глаза болели от ее блеска. Заложив руки за пояс, склонив голову, я брела по полям, погруженная в свои мысли. А мысли эти были столь безотрадны, что порой перехватывало дыхание и тоскливо сжималось сердце. Дон-дон, дон-дон — из глубины весенней земли, словно из преисподней, беспрестанно доносился какой-то грохот, далекий, но звучный, словно где-то в аду били в большой барабан. Не понимая, в чем дело, и испугавшись, что и в самом деле схожу с ума, я застыла на месте, оцепенев от ужаса, потом с громким криком упала в траву и разрыдалась. Позже я узнала, что этот странный грохот, так напугавший меня, объяснялся довольно просто: то взрывались снаряды, пущенные с военных кораблей японского флота. В то время в разгаре были военные действия, направленные на то, чтобы по приказу главнокомандующего Того одним ударом уничтожить русский тихоокеанский флот. Да, это было именно тогда. День победы японского флота будет отмечаться и в этом году.
Грохот орудий давно доносился до прибрежного городка Сиросита, вселяя тревогу в сердца его жителей, и только я ничего не замечала, всецело поглощенная болезнью сестры и совершенно обезумевшая от горя. Мне звуки взрывов казались предвестниками несчастья, грохотом адского барабана. Я долго рыдала, уткнувшись лицом в землю. А когда зашло солнце, бездумно, ощущая в груди странную пустоту, побрела к храму…
— Сестрица! — позвала меня больная. Она совсем исхудала, ослабла и, очевидно, начинала догадываться, что дни ее сочтены. Во всяком случае, она уже не шутила со мной, как прежде, и не требовала постоянного внимания. И от этого мне было еще тяжелее.
— Когда пришло это письмо?
Меня словно ударили в грудь, я почувствовала, как кровь отхлынула от лица.
Когда оно пришло? — переспросила она, не обращая внимания на мою внезапную бледность.
С трудом овладев собой, я ответила:
— Недавно, пока ты спала. Ты улыбалась во сне, и я тихонько положила его около подушки. Разве ты ничего не заметила?
— Нет! — сестра рассмеялась, ее красивые белые зубы блеснули в сумеречном полумраке комнаты.— Я его прочла. Странно! Какой-то человек, которого я совсем не знаю.
Как же она могла не знать его?
Я знала того, кто написал письмо, его звали М. Т. Я знала его очень хорошо. Нет, я никогда не видела его, но несколько дней назад в шкафу сестры, в самой глубине ящика, обнаружила пачку писем, туго перевязанную зеленой лентой. Конечно, не очень-то красиво — читать чужие письма, но я не могла удержаться и развязала пачку.
Писем было около тридцати, и все они были подписаны инициалами М. Т. А на конвертах, там, где полагается указывать имя отправителя, стояли разные женские имена. Это были имена подруг сестры, поэтому ни отец, ни я и представить себе не могли, что она так долго переписывалась с мужчиной.
Очень предусмотрительным человеком был этот М. Т.: он, очевидно, выведал у сестры имена ее подруг и, отправляя ей письма, по очереди писал их на конвертах. Смелость молодого человека поразила меня, и я содрогнулась от ужаса: а что, если об этом узнает наш строгий отец? Потом, разложив письма по датам, погрузилась в чтение. И какое-то сладостно томительное чувство охватило меня. Я тихонько смеялась над детской наивностью этой любви, мне казалось, что передо мной внезапно открылся новый мир.
Не забывайте, ведь мне тогда едва исполнилось двадцать, и у меня уже были свои сердечные тайны, которые я никому не смела доверить. Я читала письмо за письмом, и они казались мне быстрым и прозрачным горным потоком. Но вот я дошла до последнего, написанного осенью прошлого года. И у меня перехватило дыхание и подкосились ноги, так я была потрясена.
Оказывается, любовь молодых людей не была такой уж наивной, она зашла дальше и стала земной. Письма я сожгла. Этот М. Т., по-видимому, бедный поэт из Сиросита, малодушно покинул мою сестру, как только узнал о ее болезни. Как жестоки бывают люди! „Забудем друг друга“, — совершенно спокойно писал он в этом письме. Очевидно, так он и поступил, поскольку оно было последним. И теперь, если я буду молчать, моя красивая сестренка так и умрет с этой болью в сердце. Никто не узнает, подумала я, решив сохранить эту тайну в своей душе. Теперь, когда я знала все, жалость к сестре стала еще сильнее, у меня постоянно возникали странные фантазии; тяжелые, мрачные мысли одолевали меня; жизнь превратилась в сущий ад; только женщина способна понять, какие муки я испытывала тогда. Я горевала так, словно сама была обманута. Впрочем, я была немного странной в те годы.
— Прочти, пожалуйста, а то я ничего не понимаю. В чем тут дело?
Мне стало неловко от такой неискренности.
— Можно? — тихо спросила я и взяла письмо.
Пальцы дрожали, и это приводило меня в смущение. Я прекрасно знала содержание письма, но делать было нечего, пришлось прочесть его с самым невинным видом.
И я прочла вслух:
— „Я должен просить у тебя прощения. До сегодняшнего дня я подавлял в себе желание писать, причина — неуверенность в самом себе. Ты знаешь, что я беден и не отличаюсь особыми талантами. Поэтому я никак не могу связать твою жизнь с моей. Не думай, что это просто красивые слова, это правда, поверь мне. Мне постыло собственное бессилие, ведь я ничем не могу доказать свою любовь и ограничиваюсь словами. Все эти дни — нет, даже ночами во сне — я ни на миг не забывал о тебе. Но я не должен связывать твою жизнь с моей. Именно эта нестерпимая мысль и заставила меня расстаться с тобой. Чем больше твое несчастье и чем сильнее моя любовь, тем более недосягаемой становишься ты для меня. Понимаешь? Я не обманываю тебя, нет. Я решился на это из чувства ответственности и долга. Но теперь я вижу, что это было ошибкой. Да, ошибкой.
Прости меня! Я вел себя как последний эгоист, решив стать чужим тебе. Понимаешь, до сегодняшнего дня я думал, что, раз мы слабы и одиноки и ничего другого нам просто не остается, единственно достойный для меня способ существования — дарить тебе свою верность. Я говорю это искренне, поверь мне. Но теперь я понял, что человек должен стараться делать все, что в его силах. Пусть даже это будет что-то совсем незначительное. Ничуть не стыдясь, преподнести букет из одуванчиков — вот истинное мужество, вот поведение, достойное мужчины. Я больше не буду избегать тебя. Каждый день я буду сочинять стихи и посылать тебе. Каждый день за стеной твоего дома я буду играть на флейте. Для тебя. Завтра в шесть часов вечера моя флейта исполнит для тебя военно-морской марш. Я довольно хорошо играю на флейте. Сейчас это единственное, что я могу для тебя сделать. Не нужно смеяться. Впрочем, нет, смейся. И выздоравливай. Боги смотрят на нас. Я верю в это. Мы их любимые дети — ты и я. Мы будем прекрасной супружеской парой.
Долго я ждал,
И вот наконец на персике
Раскрылись цветы.
«Персик белым цветет»,— говорили,
Мой же расцвел ярко-алым.
Я работаю. Все у меня идет хорошо. До завтра.
М. Т.“
— Спасибо! — тихо сказала сестра.— Ведь я знаю, что это ты написала.
От стыда мне захотелось разорвать письмо на клочки. Наверное, в таких случаях и говорят о человеке — не знает, куда деваться от стыда. Да, это письмо написала я. Я не могла смотреть спокойно на страдания сестры и решила каждый день до самого конца писать ей письма, воспроизводя почерк М. Т., сочинять стихи, а в шесть часов вечера тихонько выходить за ограду и играть на флейте.
Как мне было стыдно! Ведь я даже ухитрилась написать какое-то жалкое стихотворение! От волнения я лишилась дара речи.
— Не беспокойся… — девочка улыбалась удивительно спокойно, даже как-то возвышенно. — Ты, наверное, прочитала письма, перевязанные зеленой лентой. Все это неправда. Я была слишком одинока и с позапрошлой осени писала их, надписывала на конвертах свой адрес и опускала в почтовый ящик. Не нужно меня обманывать. Юность
— прекрасна, я очень хорошо поняла это с тех пор, как заболела. Самой себе писать письма — в этом есть что-то вульгарное, бесстыдное! К тому же это просто глупо. Вот если бы я в самом деле обладала достаточной смелостью, чтобы встречаться с мужчиной… Как хорошо, наверное, когда тебя обнимают сильные мужские руки! До сих пор я ни разу даже не разговаривала с чужим мужчиной, так что уж там говорить о возлюбленном! Ведь и ты тоже? В этом наша ошибка. Мы были слишком благоразумны. Ах, как это отвратительно — умирать! Мне жалко моих рук, пальцев, волос! Это отвратительно!..
Печаль, страх, радость, смешавшись, наполнили мое сердце. Ничего уже не понимая, я прижалась щекой к исхудавшей щеке сестры и, разрыдавшись, крепко обняла ее. В это время, да, именно в это время послышались какие-то звуки. Они были неясными и слабыми, но это, несомненно, были звуки флейты. Мы прислушались. Я посмотрела на часы — шесть. Объятые неизъяснимым страхом, мы тесно прижались друг к другу и, не двигаясь, вслушивались в странный марш, наплывавший на нас откуда-то из листьев вишни, росшей в глубине сада.
Боги есть! Они существуют. Именно тогда я поверила в это.
Через два дня моя сестра умерла. Врач стоял над ней, недоуменно подняв брови. Наверное, потому, что дыхание ее оборвалось так тихо, так быстро. Но я не удивлялась. Я верила, что такова воля богов. Сейчас я уже стара, отягощена мирской суетностью и стыжусь этого. Может быть, не так уж сильна теперь моя вера, но случается, ко мне приходят сомнения, и я начинаю думать: а уж не отец ли играл тогда на флейте? Ведь вполне могло быть, что, вернувшись с работы, он подслушал наш разговор из соседней комнаты и, пожалев нас, решился на эту единственную в его жизни шутку.
Впрочем, едва ли… Пока отец был жив, я могла спросить у него, но вот уже пятнадцать лет, как его не стало. Нет, наверное, все-таки боги сжалились над нами.
Мне очень хочется поверить в это и обрести душевный покой, но я стара, под бременем суетности вера ослабевает, приходят сомнения».
«О» – ОСЕНЬ
Профессиональному поэту нужно всегда иметь под рукой заготовки для стихов на разные темы – трудно знать заранее, какие и когда получишь заказы.
Допустим, пришел заказ – «Осень», что ж, прекрасно – выдвинув ящичек с начертанной на нем буквой «О», где хранятся записи к темам «обещание», «облако», «одиночество», «осень», выбираешь нужные и, не торопясь, читаешь.
Вот записано: «стрекоза», «прозрачный»…
Осенью стрекозы становятся необыкновенно хрупкими, плоть их умирает, и чудится – не стрекоза, бесплотный дух ее трепещет в воздухе. Тельце стрекозы в лучах осеннего солнца кажется совсем прозрачным…
Вот еще запись: «Осень – пепел с летнего пожарища», «Выжженная земля»…
И еще: «Лето – яркий светильник, осень – сиротливый фонарь».
А вот записано: «Космея, жестокость».
Как-то раз в загородном ресторанчике, ожидая, пока мне принесут лапшу, я раскрыл лежащий на столике журнал и увидел фотографию, сделанную после сильного землетрясения. Выжженное поле и устало опустившаяся на землю женщина – одинокая фигура в клетчатом платье. Неожиданно в сердце – пронзительная жалость – любовь ли? – смутное желание.
Горе и желание – совместимы ли? Щемящая боль в сердце. Так же перехватывает дыхание, когда бредешь по засохшему полю, и вдруг – одинокий венчик космеи… Не менее мучительно видеть, как расцветают осенью цветы «вечерний лик»…
Вот еще запись: «Осень приходит вместе с летом».
Летняя пора таит в себе осень, она уже здесь, просто люди, обманутые летним зноем, не замечают ее. Но прислушайся – летом начинают стрекотать цикады; вглядись пристальнее – именно летом зацветают в саду колокольчики. Даже стрекозы появляются летом, летом завязываются плоды хурмы…
Осень – коварная обманщица. Она прячется в летних днях и, глумливо усмехаясь, готовится к своему появлению. Лишь мне, проницательному поэту, дано разглядеть ее. Мои домашние, упоенные летом, суетятся и спорят – к морю ли ехать, в горы? – а я смотрю на них с жалостью. Ведь осень – она уже здесь: не замеченная никем, прокралась тихонько вслед за летом…
«Хороши рассказы о привидениях». «Слепой массажист». «Алло, алло…»
«Манить – метелки мисканта». «С той стороны – непременно – кладбище…»
«Но как отыскать дорогу?», «Женщина – зло», «Выжженная равнина»…
Записей много, но смысл иных уже ускользает от меня. Записывал, чтобы не забыть, а теперь и сам не помню, что имел в виду.
Вот еще запись: «Смотрю в окно, а там, в саду, по черной земле, сухо шурша, ползет омерзительная осенняя бабочка. Видно, оказалась крепче других, потому и выжила. Хрупкость? Едва ли…»
Это было записано в очень тяжелое для меня время. И не забыть его никогда. Но не стоит об этом…
Вот записано: «Мертвый сезон на море».
Бывали вы когда-нибудь на пляже осенью?
У берега покачиваются в волнах сломанные зонты, валяются на песке фонарики с нарисованным на них красным кругом – следы былого веселья, тут же шпильки, клочки бумаги, осколки пластинок, пустые бутылки из-под молока… В море тяжело перекатываются грязновато-красные волны…
«Ведь правда, у Огата-сан есть дети?»
«Осенью кожа становится прохладной, это так приятно».
«Лучше всего летать самолетом осенью».
Смысл этих фраз не совсем ясен мне. Скорее всего – записанные осенью отрывки из подслушанных случайно разговоров.
Есть и такая запись: «Человек, посвятивший себя искусству, должен защищать слабых».
Как видите, некоторые фразы не имеют к осени решительно никакого отношения. Впрочем, может, это нечто вроде «осенних дум»? Ведь каждому времени года – свои мысли…
Много и других записей, совсем уж случайных: «Крестьянская семья. Книжка с картинками. Осень и солдаты. Осенние шелкопряды. Пожар. Дымка. Храмы…»
ЖДУ!
Каждый день я прихожу на эту маленькую железнодорожную станцию и жду. Кого — не знаю.
Возвращаясь домой с базара, я непременно захожу сюда, сажусь на холодную скамью и, положив на колени сумку с покупками, бездумно смотрю в сторону перрона. Вот у платформы останавливается поезд, извергает толпы людей. Они теснятся у выхода, недовольно вынимают пропуска, протягивают билеты, а потом торопливо и сосредоточенно идут дальше, проходят мимо моей скамьи, выходят на площадь и там расходятся — каждый в свою сторону. А я все сижу и бездумно смотрю на них. Вдруг кто-то единственный улыбнется мне и окликнет… Ах нет, страшно. Нет, лучше не надо. При одной мысли об этом бросает в дрожь — словно струйка ледяной воды стекает за воротник: становится трудно дышать, и больно сжимается сердце.
Но я все жду. Каждый день неизменно сижу здесь и жду. Кого? Кто он, этот человек? А впрочем, человек ли? Людей я не люблю. Скорее боюсь. Люди встречаются, говорят друг другу вымученные любезности: «Как поживаете? Что-то похолодало нынче». Повторяешь без конца эти пустые фразы, и вдруг начинает казаться — нет в мире большего обманщика, чем ты. Становится тоскливо и хочется умереть. Еще хуже, если твой собеседник окажется человеком вежливым и начнет не к месту осыпать тебя дешевыми комплиментами или самодовольно излагать свои взгляды на жизнь… Досадуешь на его ненужную предупредительность, и мир представляется тебе постылым до отвращения.
Неужели все люди одинаковы? Неужели жизнь лишь в том и заключается, чтобы говорить друг другу утратившие смысл слова, бояться и раздражать друг друга?
Я не люблю людей. Поэтому если я и ходила к кому-то в гости, то лишь в исключительных случаях. Чаще всего я целыми днями сидела дома вдвоем с матерью и молча шила. Да, это были самые прекрасные дни в моей жизни.
Но вот началась война, город встревожился, и затворничество стало тяготить меня. Душой овладело смятение — и покоя как не бывало. Мне стало казаться, что я должна работать, не жалея сил, приносить пользу людям… Возникло сомнение: а правильно ли я жила до сих пор?
Молча сидеть дома невыносимо, и я выхожу на улицу, бреду куда-то, сама не знаю куда. Заглядываю на базар, потом иду на станцию и долго сижу на холодной скамье. С надеждой: вдруг появится кто-нибудь? Со страхом: нет, лучше не надо. С отчаянной готовностью: если он все-таки появится, отдам ему свою жизнь, моя судьба в его руках.
Эти вздорные мысли, причудливо переплетаясь, теснят мне грудь, мешают дышать. Буду ли я жить? Умру ли? Не знаю. Я словно грежу наяву, страдая от собственной беспомощности. Фигуры людей, торопливо пересекающих площадь, начинают казаться далекими и такими маленькими, будто я смотрю на них в перевернутую подзорную трубу. Мир словно вымирает.
Чего же я жду? И не в том ли дело, что я разучилась владеть своими чувствами?
«Война, душевное смятение, желание работать, приносить пользу людям», — да ведь я же лгу самой себе! Я просто ищу удобного случая для осуществления своих дерзких замыслов.
Вот я сижу здесь с отсутствующим видом, и никто не знает, какие отчаянные мысли теснятся в моей голове.
Но кого же я все-таки жду? Никакого отчетливого представления об этом у меня нет. Лишь мелькает что-то очень неясное. И все же я жду. С тех пор как началась война, каждый день прихожу на станцию, сажусь на эту холодную скамью и жду. Вдруг кто-то единственный улыбнется и окликнет меня? Ах нет, страшно. Нет, лучше не надо. Я жду не тебя… Но кого же? Мужа? Нет. Возлюбленного? Тоже нет. Друга? Нет, нет. Денег? Тем более нет. Душу умершего? Нет, нет.
Жду чего-то более спокойного, более яркого, светлого и прекрасного. Сама толком не знаю чего. Такого, как весна… Впрочем, нет. Скорее такого, как молодая листва, журчащий по лугам прозрачный ручей… Нет, и это не то. Ах…
И все же я жду. Жду, и сердце трепещет. Мимо торопливо идут люди. Нет, не он, и не он… Прижимая к груди сумку, я жду, и все во мне замирает в ожидании.
Не забывай обо мне. Каждый день я иду встречать тебя на станцию, иду и возвращаюсь ни с чем. Не смейся над глупой двадцатилетней девушкой. Лучше постарайся запомнить. Я нарочно не скажу, как называется эта маленькая станция. Ведь все равно когда-нибудь ты заметишь меня.
ПРИПАДАЮ К ВАШИМ СТОПАМ…
Выслушайте, выслушайте меня, повелитель! Я расскажу все.
Этот человек ужасен. Да, да, отвратителен и жесток. А-а-а, Он просто невыносим. Он должен умереть…
Хорошо, хорошо, я буду говорить спокойно.
Он должен умереть. Он враг всем людям.
Да, я расскажу все, что знаю, ничего не утаю. Я знаю, где Он скрывается. Я скажу вам. Замучьте, уничтожьте его.
Он — мой учитель, мой господин. А лет Ему столько же, сколько и мне. Тридцать четыре. Чем же Он лучше? Он такой же человек, как и я. Но знаете ли вы, как жестоко Он обращался со мной? Как издевался? Все, хватит, надоело. Я терпел, пока мог. Но стоит ли смиряться, когда душит гнев? А ведь до сих пор я пытался еще тайком уберечь Его! Никто не знает об этом. А сам Он не замечает. О нет! Он знает, отлично знает. И именно поэтому еще больше презирает меня. Гордец! Он вынужден при бегать к моим услугам, и это вызывает Его досаду. Самонадеянность, доходящая до глупости! Он, видите ли, изволит полагать, что, принимая чьи-то услуги, проявляет слабость. Ну конечно, ведь больше всего на свете Он хочет прослыть всесильным! Это просто смешно! Мир не таков. Но именно в этом мире мы живем и должны поэтому, пробивая себе дорогу вперед, подобострастно склоняться перед одними и оттеснять других. Ничего другого нам просто не остается.
А вообще говоря, что Он может? Да ничего! У Него на губах молоко не обсохло! Ведь не будь рядом меня, Он давным-давно умер бы где-нибудь в поле вместе со своими болванами-учениками. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову».
Да, да, это верно! Откровенно говоря, Его поведение не вызывает у меня ничего, кроме отвращения. На что способны эти Его Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Фома — сборище идиотов, они толпой ходят за Ним по пятам, осыпают Его слащавой лестью, от которой мороз продирает по коже, без конца приходят в экстаз, фанатически веруют во все эти небылицы о Царствии Божьем. Глупцы! Надеются, что, если оно наконец наступит, это Царствие Божье, сядут они по Его правую и левую руку.
Вот и в тот вечер они проявили полную беспомощность, и, если бы я не оказался достаточно расторопным и не ухитрился раздобыть еды, мы бы все умерли с голоду. Ведь это правда! Я давал Ему возможность проповедовать, а сам тайком выманивал пожертвования у толпы, выпрашивал деньги у деревенских богатеев, не гнушался никакой работой: обеспечивал им ночлег, покупал одежду и пищу, но куда там, несмотря на все мои заботы, ни Он сам, ни эти идиоты-ученики не сказали мне ни слова благодарности. Да что там говорить о благодарности! Он делает вид, будто и знать ничего не знает о моих каждодневных хлопотах, и продолжает требовать все большего. Вот есть у нас всего пять хлебов да две рыбы, так нет же, Он обязательно скажет: «Дай пищу всем, кто стоит перед нами». Ну вот я и изворачиваюсь и ухитряюсь в конце концов достать все, что Он хочет. А что остается делать? Так что я не раз помогал Ему в чудесах и опасных фокусах.
Вы можете подумать, что я просто скуп, но это не так. Больше того, я умею ценить прекрасное. А Он действительно прекрасен. Он бескорыстен, как ребенок, и я не упрекал Его, когда деньги, которые я копил, чтобы каждый день иметь хлеб, Он раздавал направо и налево безо всякой нужды, не оставляя себе ни гроша. Он действительно прекрасен. Пусть я и торговец по природе своей, но высокие побуждения мне не чужды. Поэтому я молчу даже тогда, когда Он бессмысленно растрачивает жалкие гроши, с трудом накопленные мной. Да, я молчу. Но ведь Он-то, Он мог бы сказать мне хоть одно ласковое слово?! Но нет, кроме грубости и жестокости, от Него ничего не дождешься.
Однажды, это было весной, Он беспечно прогуливался по берегу моря и вдруг подозвал меня к себе и сказал:
«Окажу и тебе услугу. Я понимаю, что мучит тебя. Но нельзя же всегда ходить с таким удрученным видом! Показывать на лице своем печаль, грызущую сердце, достойно лицемера. Ибо это они принимают на себя мрачные лица, чтобы люди узнали об их печали. Если искрення вера твоя, то, даже когда тебе грустно, будь беззаботен, помажь голову твою, умой лицо твое и улыбайся. Ты не понимаешь Меня? Не перед людьми раскрой печаль свою, но пред Отцом твоим, который втайне. Ведь печаль — она в сердце каждого».
Я слушал Его, и рыдания подступали к горлу:
«Нет, даже если не поймет меня мой Небесный Отец, даже если люди не узнают о моей печали, мне будет довольно того, что Ты, только Ты один, понимаешь меня.
Я люблю Тебя.
Как бы сильно ни любили Тебя другие, их любовь ничтожна рядом с моей. Никто не может любить Тебя так, как я. Петр и Иаков да и все остальные идут за Тобой потому лишь только, что надеются на будущие блага.
И только я знаю.
Я знаю, что, даже если не отставать от Тебя ни на шаг, ровно ничего не получишь. Но расстаться с Тобой я не в силах. Я не понимаю, что со мной происходит. Но если Ты покинешь этот мир, сразу же умру и я. Жить я больше не смогу.
Знаешь, меня неотступно преследует одна мысль. Одну мечту я тайком вынашиваю в сердце своем. Я мечтаю о том времени, когда, расставшись со своими недостойными учениками и бросив проповедовать учение Отца Небесного, Ты смиренно, как простой смертный, будешь жить долго и спокойно вместе с матерью своей Марией и со мной, только с нами двумя. У меня на родине сохранился маленький дом. Еще живы мои старики. Около дома — сад. Весной, как раз сейчас, цветут персики, и это прекрасно. Там можно спокойно и радостно прожить всю жизнь. Мне хотелось бы всегда быть рядом и прислуживать Тебе. Ты найдешь себе хорошую жену…»
Так сказал я Ему, а Он только усмехнулся и вымолвил тихо, словно говорил сам с собой:
«Петр и Симон — рыбаки. У них нет персиковых садов. Иаков и Иоанн тоже нищие рыбаки. У них нет земли, где они могли бы спокойно и радостно прожить всю жизнь».
И тихо пошел по берегу моря.
Это был единственный раз, когда я мог поговорить с Ним по душам, ни до этого, ни после Он ни разу не удостоил меня откровенной беседы.
Я люблю Его.
Если Он умрет, умру и я. Он никому не принадлежит, Он принадлежит мне. И если вдруг придется передать Его в чьи-то чужие руки, я убью Его, прежде чем передам.
Бросив отца, мать и родную землю, я последовал за Ним. Я не верю в Царствие Небесное. И в Бога не верю. Не верю я в Его Воскресение. Почему именно Он должен быть Царем Иудейским? Разве это возможно? Глупые, презренные ученики верят, что Он посланец Божий, и прыгают от восторга, внимая Его речам о благах Царствия Небесного. Но их ждет разочарование, я уверен. Он обещает, что возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Разве может мир так измениться? Это ложь! Все, что Он говорит, — вздор, от начала до конца. Ни одному Его слову я не верю. Я верю только в Его красоту. В мире больше нет таких прекрасных людей. И любовь моя чиста.
Вот и все. Я не думаю ни о каком вознаграждении. Не так я низок, чтобы следовать за Ним в надежде на Царствие Божие и будущие блага. Нет, я просто не хочу разлучаться с Ним. Мне достаточно быть рядом, внимать словам Его, любоваться Его лицом. Как бы я хотел, чтобы Он бросил свои проповеди и жил долго вдвоем со мной, только со мной. Ах, если бы это было возможно! Как бы счастлив я был! Я верю только в радости земной жизни. И не пугает меня Страшный суд. Почему, почему не принимает Он мою чистую, бескорыстную любовь? А-а-а…
Убей Его, повелитель!
Мне известно, где Он скрывается. Я провожу.
Он презирает меня, ненавидит. Я вызываю у Него отвращение. Я достаю Ему и Его ученикам хлеб, спасаю их от голода и жажды. Почему же, почему они презирают меня?
Слушайте! Это было шесть дней тому назад.
Когда Он вкушал пищу в доме Симона из Вифании, младшая сестра Марфы, Мария, украдкой вошла в комнату с алебастровым сосудом нардового миро, и возливала Ему на голову, и замочила одежды Его. Но она не только не попросила прощения, а преспокойно склонилась перед Ним и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от миро.
Что-то тревожное почудилось мне в том, и, охваченный внезапным гневом, я крикнул женщине:
«Как смеешь ты вести себя так, недостойная! Посмотри, ты замочила всю Его одежду! К чему такая трата? Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сколько бы это им доставило радости! Зачем делать то, что никому не нужно?»
А Он — Он бросил суровый взгляд в мою сторону и сказал:
«Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня — не всегда. Мне скоро уже никто не сможет подать милостыни. Я не скажу вам почему. Только эта женщина знает причину. Возливши миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению. Истинно говорю вам: где в целом мире не будет проповедано о Моей короткой жизни, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
Кровь прилила к Его бледным щекам, и они потемнели.
Я не поверил было Его словам, решил, что это очередное представление, и спокойно пропустил мимо ушей Его высокопарные речи, но тут в голосе Его и в глазах мне почудилось что-то необычное, невиданное раньше, и, на минуту растерявшись, я снова внимательно посмотрел на Его порозовевшие щеки, вгляделся в увлажнившиеся глаза. И мне стало страшно.
А-а, как это гнусно, противно даже говорить об этом! Но ведь это правда — в Его душе зародилась тогда любовь к этой нищей крестьянке. Впрочем, нет, едва ли можно назвать это любовью, но что-то было все же, какое-то опасное, сомнительное чувство, похожее на любовь. Конечно, ошибкой, непростительной ошибкой было бы считать, что какая-то темная крестьянка могла пробудить в Его душе любовь, но все же…
Нет, нет, я не хочу распространять дурные слухи. Но я от рождения отличался удивительным чутьем, помогавшим мне угадывать чувства, которых должно стыдиться. Считайте, что это просто нюх, как у собаки. Мне и самому отвратительно это свойство, но что делать, я действительно обладаю способностью с одного лишь мельком брошенного взгляда безошибочно распознавать людские слабости. И я видел, что Его тронул тогда поступок этой женщины. Да, да! Я не мог ошибиться. Это было очевидно. А-а, но как это ужасно, невыносимо! Я подумал тогда: нельзя допустить такого унижения. Ведь это же безумие! Ни одной женщине еще не удавалось возмутить Его душу, чистую, словно тихая вода в пруду. Ничто не могло поколебать Его спокойствие. А теперь… Это же никуда не годится — Он потерял всякую власть над собой. Все это, конечно, можно объяснить молодостью, но, если на то пошло, я тоже молод, даже моложе Его на два месяца. Но я-то терплю. Ему одному посвятил свою душу, и никакая женщина до сих пор не волновала меня.
А эта Мария, хоть и сестра Марфе, но совсем не похожа не нее. Марфа крепкого сложения, толстая и неповоротливая, как корова, обычная крестьянка с грубым лицом, привыкшая к тяжелой работе. А Мария? Мария не такая. Ее утонченности удивляются все в деревне. Хрупкий стан, белая, словно просвечивающая, кожа, изящные руки и ноги, а глаза — глаза светлые и глубокие, и взгляд мечтательно устремлен куда-то вдаль.
А я-то, я-то… Собирался украдкой привезти ей белого шелка из города…
Ах, я совсем запутался, говорю что-то не то.
Да, мне досадно. Досадно! Почему? Не знаю. Но так обидно, что готов ногами затопать от ярости.
Пусть Он молод, но ведь и я молод, я не урод и вовсе не глуп. У меня есть дом и клочок земли. И ради Него я пожертвовал всем. Он обманул меня! Лжец!
Повелитель, Он отнял у меня женщину!
Ах, нет, неправда. Это женщина отняла Его у меня!
Нет, опять не то.
Какой вздор! Ни слову не верьте. Я сам не понимаю, что говорю.
Простите. Я все выдумал. На самом деле все было не так. Глупо даже вспоминать об этом.
Но ведь мне досадно! И тогда было досадно, так досадно, что хотелось вырвать у себя сердце. Я не понимаю, что со мной происходит.
Ах, ревность — это невыносимый порок! Меня влекло к Нему с такой силой, что я готов был жизнь за Него отдать, до сегодняшнего дня с рабской покорностью я следовал за Ним, и все же меня Он не удостоил ни одним ласковым словом, а за эту презренную крестьянку изволил заступиться, да с такой горячностью, что кровь прилила к Его бледным щекам.
А-а, Он сам не знает, что делает.
Это — безумие! У Него нет будущего. Заурядный человек. Чем Он лучше других?
«Я не пожалею, даже если Он умрет».
После того как мне впервые пришла в голову эта мысль, я задумал ужасное, я даже сам не ожидал, что способен на такое. Это было какое-то дьявольское наваждение. Но именно с того момента я стал думать, что лучше уж убить Его своими руками. Его все равно убьют, это ясно. Он же ведет себя так, будто напрашивается на смерть, это всякому видно.
Так пусть Его убьет моя рука. Я не вынесу, если это сделает кто-нибудь другой. Убив Его, умру и я.
Мне стыдно своих слез, повелитель. Я не буду плакать.
На следующий день мы отправились наконец в желанный Иерусалим. И стар и млад толпами тянулись за Ним по пятам. Вскоре показался впереди храм иерусалимский. И тут Он заметил на обочине старого, облезлого осла. Улыбаясь, сел на него верхом и с просветленным лицом объяснил, что это и есть то, о чем гласит пророчество: «Не бойся, дщерь Симонова! Се Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И только у меня одного отчего-то тревожно сжалось сердце.
Воистину, жалкое зрелище! Да неужели же эта процессия во главе с Ним, сидящим верхом на старом, облезлом, еле волочащем ноги осле, и есть тот самый долгожданный въезд в Иерусалим — страстное желание всей Его жизни?
Ничего, кроме жалости и презрения, не было в моем сердце. Какой глупый и грустный фарс!
«Да, ему явно не повезло в жизни. Продлить ее хотя бы на день — значит выставить Его на посмешище глупой толпы. Цветы прекрасны, пока не увядают. Вот и надо срезать их, пока они прекрасны. Никто Его не любит так, как я. И пусть меня возненавидят люди. Он должен был умереть на целый день раньше».
Поймав себя на таких мыслях, я окончательно убедился в правильности своего ужасного решения.
Толпы людей росли с каждым мгновением. Многие постилали одежды свои по дороге, красные, синие, желтые, а другие резали пальмовые ветви и постилали по дороге, встречали Его громкими, радостными возгласами. Эти безумцы забегали вперед, шли сзади, слева, справа, стремились не отставать от Него ни на шаг, наконец, подобно гигантской волне, подхватили и понесли Его вместе с ослом, несли и в неистовстве своем распевали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!»
Петр, Иоанн, Варфоломей, все эти глупцы, придя в экстаз от умиления, бросались друг к другу в объятия и обменивались поцелуями, смешанными со слезами. Можно было подумать, будто они уже узрели перед собой Царствие Божие, будто следовали за победоносным полководцем. Упрямец Петр сжимал в объятиях Иоанна, и слезы радости неудержимым потоком струились по его щекам. Глядя на них, я вспомнил тяжелые дни нужды, когда, забывая о лишениях, я шел вместе со всеми, проповедуя учение Отца Небесного, и веки мои потеплели.
И вот Он подъехал к храму и слез с осла. Очевидно, какая- то мысль пришла Ему в голову в это мгновение, потому что, подобрав с земли веревку и размахивая ею, как бичом, опрокинул Он столы меновщиков и скамьи продающих голубей, вывел из храма волов и овец, приведенных на продажу, и, обернувшись к собравшимся, крикнул голосом, высоким от гнева:
«Уходите отсюда все!» И учил их, говоря: «Не написано ли: „Дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников».
Я не мог объяснить Его действия ничем, кроме внезапного помешательства. Иначе невозможно было понять, почему такой мягкий обычно человек ведет себя грубо, как пьяный. Остальные были поражены не меньше, все стали расспрашивать Его, пытаясь выяснить, что же случилось. А Он, все еще задыхаясь от гнева, ответил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Тут даже олухи-ученики и те усомнились, понимая безрассудство Его слов, и онемели от растерянности.
И только я понял, почему Он это сказал. Очередное бахвальство! Он ведь хвастлив, как дитя. Опять захотелось показать людям, что непоколебимая вера поможет свершить все, что угодно.
Продолжая помахивать бичом, Он выгнал из храма растерявшихся торговцев.
Какая жалкая хвастливость! Меня так и подмывало спросить Его с сочувственной улыбкой: «И это все, что Ты можешь? Да стоит ли тратить силы на разбрасывание лавок торговцев голубями?»
Но Он уже обречен. Он в отчаянии. Забыл о всякой осмотрительности и готов на все. Я заметил, что Он уже и сам начал сознавать свое бессилие. И именно поэтому у меня возникло желание отдать Его в руки первосвященников, чтобы Он распростился с миром, пока это не стало очевидно всем. Убедившись еще раз в правильности своего решения, я немного успокоился и даже нашел в себе силы посмотреть на Него другими глазами И посмеялся над собственной глупостью — ведь до сих пор я безмерно любил этого жеманного ребенка.
Потом перед собравшимися в храме Он произнес необдуманно дерзкую и высокомерную речь. Ничего более ужасного мне не приходилось еще слышать. Да, Он был в отчаянии и сам не знал, что делает. Мне уже не казалось, что Его окружает сияние, было просто немного противно и хотелось только одного: чтобы меня убили.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь повапленным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Змеи, порождения ехидны, как убежите вы от осуждения в геену? Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!»
Какая глупость! Глупее и не придумаешь. Даже повторять противно. Ужасно! Он просто безумен.
Из Его уст извергались и другие слова, не менее нелепые; настанет голод, будет землетрясение, звезды упадут с неба, по теряет свой блеск луна, соберутся орлы к трупам людей, наполняющим землю, и будут клевать их, и люди тогда будут про даваться скорби и скрежетать зубами.
Как можно болтать такое! Ведь даже подумать об этом, страшно. Какая глупость! Каждый должен знать свое место, Это просто дерзко в конце концов! Он должен искупить свою вину. Распять, непременно распять. Это решено.
Первосвященники и старейшины собирались вчера у Кайафы и вынесли решение убить Его. Я слышал об этом от торговцев на рынке. Дошло до меня и то, что вы дадите тридцать сребреников тому, кто выследит Его и укажет место, где Он будет с одними учениками. Понятно: ведь если схватить Его на глазах у толпы, поднимется ропот.
Сейчас не время откладывать. Он должен умереть. И я сам передам Его в ваши руки — не хочу ждать, пока это сделает кто-то другой. Таков будет прощальный дар моей любви, которая все это время безраздельно принадлежала Ему.
Это мой долг. Я продам Его. Вы видите, что я в трудном положении. Поймет ли кто-нибудь, что мой поступок был продиктован любовью — любовью, которой я посвятил всю свою жизнь?
А, все равно! Пусть никто не поймет. Моя любовь слишком чиста, я не нуждаюсь в том, чтобы ее понимали. Да, да, моя любовь не настолько низменна. Отныне моим уделом будет всеобщая ненависть. Но перед беспредельностью моей любви не имеют ровно никакого значения наказания, даже адский огонь не страшит меня. Я пройду по уготованному мне пути. Непреклонность моего решения приводит меня в ужас, но я не отступлю.
Итак, стараясь ничем не выдать себя, я ждал удобного случая. Наконец настал день праздника Пасхи. Мы, двенадцать учеников, решили снять темную комнату на втором этаже старого дома на вершине холма и устроить там праздничную вечерю. И вот все уже сели за стол и собирались приступить к трапезе, как вдруг Он встал и начал молча снимать верхнюю одежду. Все смотрели на него в недоумении, а он взял со стола кувшин, влил воды в умывальницу и, препоясавшись полотенцем, начал умывать ноги ученикам своим. Не понимая, в чем дело, они не знали, куда деваться от смущения, но я догадался, какие мысли мучили Его в ту минуту; Он страдал от собственного одиночества. Он настолько пал духом, что готов был цепляться даже за своих невежественных и глупых учеников. Какая жалость! Он знал, что готовит Ему судьба, и понимал, что конец неотвратим.
Я смотрел на Него и вдруг почувствовал, что рыдания подступают к горлу. Мне захотелось обнять Его и заплакать вместе с Ним:
«Мне жаль Тебя! Разве заслуживаешь Ты этой кары? Ты всегда был так добр, так справедлив. Всегда был на стороне бедняков. Ты и вправду Сын Божий. Я знаю это. Прости меня. Ведь я хочу продать Тебя и эти два дня только жду удобного случая. По теперь, теперь я ненавижу себя за это. Продать Тебя — и как мне только в голову могла прийти такая ужасная мысль! Успокойся. Пусть даже придут сюда пятьсот служителей и тысяча воинов, им не позволят коснуться Тебя пальцем. Тебя сейчас выслеживают. Будь осторожен. Надо немедленно бежать отсюда. Подойди, Петр, подойди, Иаков, и ты, Иоанн, тоже, все подойдите. Защитим нашего доброго Господина, пусть живет Он до глубокой старости».
Я так и не смог произнести вслух эти слова любви, рвавшиеся из моего сердца и обжигавшие губы. Возвышенное чуни во, что-то вроде вдохновения, охватило меня в тот миг, ничего подобного мне еще не приходилось испытывать. Светлые слезы мольбы о прощении заструились по моим щекам. А Он уже омывал и мои ноги, старательно, неторопливо и ласково отирал их полотенцем, которым был препоясан. О, какое чувство охватило меня тогда! Да, именно в ту минуту мне, может быть, и довелось увидеть Царствие Божие.
Вслед за моими омыл Он ноги Филиппа, Андрея, потом подо шел к Петру. Да, именно в таком порядке. А Петр, этот дурак, у которого что на уме, то и на языке, не смог сдержать своего недоумения и спросил, недовольно повысив голос:
«Господи, Тебе ли умывать мои ноги?» А Он тихо сказал ему в ответ: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после», — и опустился на корточки у ног Петра. Но этот болван еще больше заупрямился: «Не умоешь ног моих вовек. Я недостоин того, чтобы умывал Ты ноги мои», — и спрятал ноги иод себя. Тогда Он, немного повысив голос, сказал решительно и довольно настойчиво: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною».
Испугавшись, Петр склонился перед Ним и взмолился: «Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову».
Услышав эти слова, я прыснул со смеху, другие ученики тоже заулыбались, и показалось, что в комнате на минуту стало светлее Он тоже улыбнулся и сказал: «О Петр, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И ты, и Иаков, и Иоанн уже чисты, но…», — тут Он выпрямился, и лицо Его страдальчески исказилось, словно мучительная боль пронзила внезапно сердце. Он закрыл глаза: «Надо, чтобы все были чистыми».
Ужас охватил меня. Попался! Это обо мне Он говорит! Он видит меня насквозь, и от Него не укрылись темные мысли, обуревавшие меня еще за минуту до этого. Он разгадал меня и знает, что я замыслил продать Его. Впрочем, может быть, я и ошибался. Конечно же, ошибался. Ведь я уже стал чистым, и душа моя изменилась.
А-а, но Он-то не знает об этом, не знает.
«Нет, нет, ты ошибаешься!» Мое слабое раболепное сердце проглотило этот вопль, подступавший к самому горлу, так же легко и естественно, как проглатывают слюну. Я не смог сказать этого. Ничего не смог сказать. Во мне зашевелилось слабодушное сомнение: может быть, я все-таки так и не стал чистым?И эта низкая мысль в одно мгновение разрослась, уродливая и темная, и наперекор ей взорвалась, извергая пламя, неистовая ярость.
«Нет, так нельзя. Это никуда не годится, — подумал я. — Он же ненавидит меня всей душой. Я должен продать Его, должен! Он умрет. И вместе с Ним умру я». Прежнее решение опять вернулось ко мне, и теперь уже безвозвратно — я стал злым пухом мести.
А Он надел одежду свою и спокойно возлег опять, будто и не заметив смятения, за какую-то минуту перевернувшего мою душу, потом, побледнев, тоскливо сказал:
«Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня учителем и Господом — и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать моги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете».
И Он смиренно начал вкушать выставленное угощение и вдруг опустил голову и сказал голосом, больше похожим на стон или рыдание:
«Один из вас предаст Меня».
Тут все ученики зашумели, повскакали с мест и бросились к Нему, восклицая: «Не я ли, Господи, не я ли, Господи», а Он покачал головой тихо, словно умирающий, и сказал неожиданно отчетливо:
«Тот, кому Я, обмакнув, кусок хлеба подам. Горе тому человеку. Лучше было бы ему не родиться».
И, обмакнув кусок, Он, безошибочно протянув руку, прижал его к моему рту.
И тут ко мне вернулась былая решимость. Мне даже не было стыдно, нет, скорее, я испытывал ненависть к Нему, ненависть к Его запоздалому гневу. Да, вот так выставить меня на посмешище перед учениками — на Него это похоже.
Огонь и вода! Судьбы, которым не суждено слиться воедино, — мот что было между нами. Кинуть мне кусок хлеба, словно собаке, — вот она, единственная месть, на которую Он способен. Ха-ха-ха. Глупец!
Он сказал мне: «Что делаешь, делай скорее!» Я сразу же выскочил из трактира, долго бежал по темной дороге, и вот я здесь, перед вами.
Не останьтесь равнодушными к моей просьбе! Накажите Его! Как хотите, но только накажите! Можете, поймав, бить Его палкой, раздеть догола, убить. Я больше не могу терпеть, не могу! Я ненавижу Его! Он ужасный человек. Он так мучил меня. Негодяй!
Он сейчас в Гефсиманском саду за речкой Кедрон. Вечеря окончена, и Он вышел вместе с учениками, чтобы помолиться.
Рядом с Ним больше никого нет. Сейчас Его можно схватить очень легко.
А, какая-то пташка расшумелась, до чего же назойливая!
Почему это сегодня ночью мне все время лезут в уши птичьи голоса?
Когда я бежал сюда лесом, там тоже все кричала какая-то птаха: питику, питику…
А ведь говорят, что птицы редко поют ночью.
Мне даже стало интересно, как она выглядит, какое-то детское любопытство одолело, я остановился, вытянул шею и стал всматриваться в ветки…
Впрочем, все это никому не интересно. Простите…
У вас все готово?
О, как это приятно слышать, как хорошо!
Сегодняшняя ночь — последняя в моей жизни.
Только смотрите внимательно, прошу вас. Я буду стоять рядом с Ним, плечом к плечу. Я специально так стану, чтобы показать Его вам.
Что вы сказали?
Нет, я не боюсь. Да и не слуга я Ему вовсе! Мы с Ним одного возраста. Приятные молодые люди, да…
А-а, как тягостен голос этой птицы… Надоедливо лезет и уши. И чего это птицы так расшумелись сегодня? Питику, питику… О чем это они?
Что это?.. Деньги? Вы мне их даете?
Ну да, мне. Надо же… Ха-ха-ха!..
Нет, не нужно. Уберите их, ведь Его же еще не поймали. Я ведь совсем не из-за денег пришел. Уберите их.
Ах нет, простите меня, я беру эти деньги. Да! Я же был торговцем. Именно из-за денег Он постоянно презирал меня. Удивительная щепетильность!
Я возьму их. Все-таки я — торговец. Эти презренные деньги вот моя месть. Что ж, этого и следовало ожидать. Он продается за тридцать сребреников!
Да нет же, я вовсе не собираюсь плакать.
Я не люблю Его. И никогда не любил. Да, я все время лгал вам. Я следовал за Ним только потому, что хотел денег. Это правда. Сегодня я окончательно убедился в том, что Он не даст мне разбогатеть, и во мне снова проснулся торговец.
Деньги!
Все в мире только деньги.
Тридцать сребреников — как это прекрасно! Я беру их. Я скуп, как любой торговец. Я очень жадный человек.
Да, да, большое спасибо!..
Да, забыл вам сказать. Мое имя — торговец Иуда.
Хэ-хэ.
Иуда Искариот.
ИСПОВЕДЬ «НЕПОЛНОЦЕННОГО» ЧЕЛОВЕКА
Повесть
Предисловие
Я видел три его фотографии. На одной ему лет десять. Мальчик в полосатом хаками из грубого холста снят в саду на фоне пруда в окружении многочисленных сестер (наверное, и родных, и двоюродных); голову сильно склонил влево и состроил уродливую гримасу, нечто наподобие кривой улыбки. Я назвал гримасу уродливой, хотя неразборчивые люди, то есть те, кому безразлично, что красиво, а что безобразно, взглянув на фотографию, скажут, может быть: «Какой милый мальчик», и это не будет просто любезностью, потому что в улыбке все же есть и то, что обычно определяется словом «милый». Но люди, хоть в какой-то мере знающие толк в красоте, скорее всего пробурчат: «Неприятный ребенок» — и, пожалуй, отшвырнут фотографию, словно гусеницу держали в руках.
И в самом деле: чем дольше смотришь на этого улыбающегося мальчика, тем неприятнее становится… Так ведь это и не улыбка. Мальчик вовсе не улыбается. Взгляните внимательнее: кулачки его сжаты. А улыбающийся человек не может сжимать кулаки. Обезьяна. Обезьянья мордочка с гримасой, похожей на улыбку. Иллюзию улыбки просто создают безобразные морщины. «Состарившийся малыш» — вот что хочется сказать об этом ребенке. Снимок производит странное впечатление, что-то есть в мальчике омерзительное, даже вызывающее тошноту. Никогда не доводилось мне видеть ребенка с таким противным лицом.
Второй снимок тоже поражает: можно ли так измениться? Здесь он уже студент, может быть, гимназист — трудно сказать наверняка,— но сразу бросается в глаза, что он стал значительно симпатичнее. И опять-таки, как это ни странно, на этой фотографии он какой-то неживой. На нем студенческая (или гимназическая) форма, из нагрудного кармана выглядывает белый платочек; он сидит в плетеном кресле, положив ногу на ногу, и снова улыбается. Только теперь это уже не обезьянья гримаса — его улыбку можно даже назвать изысканной. И все же что-то отличает ее от обычной человеческой улыбки. Не чувствуется в юноше полнокровия, что ли, вкуса к жизни, начисто отсутствует в нем ощущение себя в реальном бытии; легкость даже не птички, а перышка, листа бумаги — вот что внушала его улыбка. Он весь был какой-то искусственный. Большой оригинал? Да вроде нет. И не лицемер. И не изнеженное создание. Ну и, конечно же, не пижон. Вглядевшись в это лицо внимательно, можно разглядеть что-то неприятное, что-то от оборотня или привидения. Никогда я не видел юношей с таким странным, хотя и красивым, лицом.
И, наконец, третий фотоснимок, самый удивительный. Возраст определить совершенно невозможно. Голова седая. Он сидит в углу грязной комнаты (на фотографии отчетливо видны рваные в трех местах обои), греет руки над маленьким хибати. Теперь он уже не улыбается. И вообще лицо ничего не выражает. Впечатление такое, будто человек, грея над жаровней руки, медленно-медленно угасает. Чем-то зловещим, большим несчастьем веет от этого снимка. Но было в нем еще что-то загадочное, поразившее меня. Лицо снято крупным планом, я мог внимательно изучить его — самый обыкновенный лоб, ничего особенного в морщинах, бровях, глазах, обыкновенный нос, рот, подбородок… Ах, вот в чем дело: это лицо не только безжизненно, оно бесприметно, оно совершенно не оставляет следа в памяти. Вот только что я взглянул на фотографию, зажмуриваю глаза — и ничего не могу вспомнить. Припоминаю стены, маленькую жаровню, но не могу восстановить в памяти черты человека, находящегося внутри этих стен. Портрет с такого лица не напишешь. И шарж не придумаешь. Открываю глаза, смотрю снова — нет, ничего не отложилось в голове, лицо никак не вспоминается; от этого становится ужасно неприятно, появляется раздражение и хочется быстрее отвести взгляд.
Печать ли смерти, либо что-то другое вместо обычного человеческого выражения лица производило гнетущее впечатление. (Попробуйте представить себе прикрепленную к телу человека морду вьючной лошади.) Во всяком случае, было в этом человеке нечто, из-за чего невольно вздрагивал каждый глядевший на фотографию, омерзение вызывала она у всех.
Тетрадь первая
Вся моя жизнь состояла сплошь из позора. Да, впрочем, я так и не смог уяснить, что это такое — человеческая жизнь?.. Я родился на северо-востоке страны в деревне. Уже взрослым впервые увидел поезд. Железнодорожные эстакады казались мне аттракционами, по замысловатой прихоти выстроенными на заграничный манер; и хотя я не раз ими пользовался, никак не мог свыкнуться с мыслью, что они нужны всего лишь для безопасного перехода через пути. Не единожды поднимаясь на эстакаду, спускаясь с нее, я воспринимал это как изысканное развлечение, мне казалось, что они составляют одну из самых приятных услуг, оказываемых железной дорогой, и когда позднее я открыл для себя, что эстакада — не более чем мост над путями, то есть строение исключительно утилитарного назначения, — интерес к ним совершенно пропал.
И еще помню, что как-то в детстве я увидел в одной книжке метро и тоже долго считал его не транспортом, созданным из практической необходимости, а увлекательным развлечением: разве не шик — кататься на поезде под землей?
Я был хилым ребенком, часто болел и, разглядывая в постели простыню, наволочку, пододеяльник, думал: до чего же у них скучная расцветка; годам к двадцати только я осознал практическую надобность таких вещей, и это меня очень поразило: я был буквально подавлен сухой расчетливостью людей.
Не знал я также, что такое голод. Нет, не в том дело, что я рос в семье, никогда не испытывавшей нужды, я имею в виду совсем не эту банальную ситуацию, а то, что мне совершенно неведомо было ощущение голода. Странно, но я не обращал никакого внимания на еду, даже если долго не было и крошки во рту. Помню, когда я учился в школе — в начальной, затем в средней, — возвращался с уроков, а вокруг меня носились: «Проголодался, наверное? Знаем-знаем, сами помним, как жутко хочется есть после школы. Может быть, хочешь сладенького натто? А бисквита не поешь? И хлеб тоже есть». И я, подхалим от рождения, бормочу, что проголодался, нехотя закидываю в рот десять фасолек, не испытывая при этом ничего похожего на голод.
Вообще-то я ем отнюдь не мало, но не припомню случая, когда бы ел оттого, что был голоден; ел то, что считал редкостью, лакомством. Когда меня угощают — ем много, едва ли не больше, чем могу. Но питаться дома в кругу семьи с детства было для меня самой тяжелой обязанностью.
От воспоминаний об обедах в нашем деревенском доме меня прошибает пот. Вот как это всегда выглядело. В два ряда стоят низенькие столики-подносы, и все — а нас в семье было десять человек — садятся друг против друга, каждый за свой столик, я, самый младший, сажусь за последний; в комнате сумрачно, все едят, не произнося ни слова. Если добавить еще, что в нашем доме сохранились старые порядки и пища всегда была одна и та же и о лакомствах, роскошной еде никто и не помышлял, то станет понятно, почему — чем дальше, тем больше — домашние трапезы внушали мне ужас. Когда я в полутемной комнате сидел за своим последним столиком и, дрожа от холода, запихивал в рот горсть риса, мозг сверлили вопросы: почему люди едят каждый день по три раза? почему с такими постными лицами? может быть, принятие пищи — это ритуал? и для совершения его все члены семьи всегда в одно и то же время три раза в день (!) вынуждены собираться в затемненной комнате, ровно расставлять столики и угрюмо есть, даже если им этого, возможно, не хочется? Мне даже приходила в голову мысль, что все это — моление обитающим в нашем доме духам.
«Если не будешь есть — умрешь»,— говорили мне, и, хотя я всегда воспринимал эту фразу просто как запугивание, она тем не менее всегда вызывала у меня беспокойство и страх. «Без пищи человек умирает, человек работает, чтобы есть. Надо, обязательно надо принимать пищу…» Ничего более недоступного разумению мне слышать не приходилось.
Из этого следовало, что я ничего не смыслю в предназначении человека. Мое понимание счастья шло вразрез с тем, как понимают его другие люди, и это становилось источником беспокойства, которое не давало мне спать ночами, сводило меня с ума. Так все-таки, каково же мне: счастлив я? или нет? Часто, еще с детства, люди называли меня счастливчиком, мне же, наоборот, казалось, что как раз их жизнь куда благополучнее, притом что моя — просто адская.
Иногда я даже так думал: испытай ближние хотя бы одну из моих бед, эта единственная скосила бы их.
Для меня всегда было невозможным представить себе, что и в какой степени доставляет ближним страдания. Может, и в самом деле реально только то страдание, которое разрешается простым наполнением желудка? Быть может, это и есть самая ужасная, адская мука? И она не уступает тем десяти, которые испепеляют мою душу? Тогда почему никто собственноручно не обрывает свою жизнь, не сходит с ума? Люди болтают о политике, судачат о том о сем, не ведая отчаяния, они способны стойко бороться с разными невзгодами… Так, может быть, им не столь уж тяжко? Или же они
— совершенные эгоисты, уверовавшие в свою непогрешимость, никогда и ничего не подвергающие сомнению? В таком случае им действительно легко жить. Но неужто все люди таковы? И все вполне довольны собой? — Не понимаю… Неужели все они ночью крепко спят и наутро встают бодрые? Какие сны им снятся? О чем они думают, когда идут по улице? О деньгах? Вряд ли. Вряд ли только о них. Мне приходилось слышать, что люди живут ради еды, но я не слышал еще, чтоб жили исключительно ради денег… Хотя всякое бывает. Нет, непонятно мне все это… Чем чаще я думал об этих вещах, тем меньше понимал и тем большее беспокойство терзало меня. И страх, что я один не такой, как все. Я не в силах общаться с себе подобными. Ну, о чем я должен с ними рассуждать? И как? Не знаю…
И тут меня осенило: надо стать паяцем. Это будет последней попыткой перекинуть мост между собой и людьми. Испытывая перед ними чрезвычайный страх, я все же, видимо, на окончательный разрыв с людьми пойти не мог. Вот так и получилось, что шутовское кривлянье стало единственной связующей ниточкой между мной и всеми другими людьми. Гримаса улыбки не сходила с моего лица, в то время как душу терзало отчаяние; шутовство стоило огромных усилий, мои нервы всегда были на пределе, и я в любой момент мог сорваться.
Да, с детских лет я совершенно не представлял себе, как живут мои родные, что их заботит, о чем они думают — и в то же время не мог примириться с их унылым существованием. Оттого, наверное, прекрасно научился паясничать. Как и когда это произошло — не знаю, но с малых лет я владел способностью не произносить ни слова правды.
Вот и фотография, на которой я снят со своей семьей: у всех серьезное выражение лица и только на моем, конечно же, кривая улыбка. Это тоже притворство, пока еще детское и в чем-то печальное.
Я никогда не препирался с домашними, хотя их ворчание отдавалось во мне раскатами грома и доводило до безумия. Наоборот, я укреплялся во мнении, что их речи как раз и выражают общечеловеческие истины, да вот только у меня нет сил жить в соответствии с ними, и, вероятно, я уже до конца дней своих не смогу сосуществовать с людьми. Поэтому никогда не вступал в споры, не пытался оправдываться. Стоило кому-нибудь побранить меня — я сразу же с готовностью признавал свою вину. Все нападки я сносил молча. Но чего мне это стоило! Порой я просто сходил с ума.
Естественно, никому не нравится, когда его ругают, когда на него злятся, но мне в искаженном злобой человеческом лице видится истинная — звериная — сущность, и человек-зверь кажется мне страшнее нравом, чем лев, крокодил или дракон. Обычно звериный нрав люди стараются спрятать поглубже, но бывают моменты, когда он проявляется — подобно тому, как корова дремлет, лениво пощипывая травку, и вдруг нет-нет да и шлепнет хвостом севшего на брюхо слепня. Всякий раз я содрогаюсь, видя в человеке разбуженного злобой зверя; волосы на голове встают дыбом: неужто злоба — неизбежный спутник человека в его странствиях по жизни? Я всегда приходил в отчаяние от этой мысли.
Постоянно люди ввергали меня в панический ужас, я уверовал, что не состоялся как человек, и все это выливалось в то, что я скрывал свои терзания в тайниках души, усиленно маскировал меланхолию, нервозность, закутываясь в одежды наивного оптимизма, все более становился паяцем, чудаком.
«Главное — заставлять людей смеяться, — рассуждал я, — и тогда им не особенно бросится в глаза мое пребывание вне того, что они называют жизнью; во всяком случае, мне не следует становиться бельмом в их глазу; я — ничто, я — воздух, небо». Все более укрепляясь в этом мнении, я отгородился своими чудачествами от семьи, самым отчаянным образом паясничал даже перед слугами — кстати, гораздо более загадочными и нестерпимыми, чем родные.
Бывало, стараясь всех рассмешить, летними днями под легкое кимоно я надевал шерстяной свитер и в таком виде шатался по коридору. Старший из моих братьев, который вообще, наверное, никогда не смеялся,—и тот, глядя на меня, не в силах удержаться, прыскал: «Слушай, Ё-тян1, кто же так одевается?» А сам, видно, в это время думал: «Я-то не такой чудак, чтобы не разобраться, холодно ли, жарко ли, чтобы в летний зной напяливать на себя шерстяной свитер, да еще кимоно сверху». На самом же деле я надевал на руки сестрины гетры, которые, выглядывая из-под коротких рукавов кимоно, только создавали впечатление, будто на мне свитер.
Моему отцу по работе приходилось долго и часто бывать в Токио. Там, в Уэно, в квартале Сакураги у него был домик, в котором, собственно, он и жил большую часть времени. Возвращаясь домой, отец всем, даже дальним родственникам, привозил иодарки. И вот как-то раз перед отъездом в столицу он собрал в гостиной детей и, довольно улыбаясь, стал спрашивать, что кому привезти; пожелания каждого записывал в блокнот. Справедливости ради надо отметить, что таким нежным родителем он бывал крайне редко.
— А что тебе, Ёдзо? — запинаясь спросил он.
Когда меня спрашивают, что я хочу, мне как-то сразу вообще перестает хотеться чего-либо. «Все равно нет ничего, что меня порадовало бы», — мелькает в голове в таких случаях. В то же время я никогда не мог отказаться от подарка, даже если он мне совсем не нравился. Отрезать «не надо» я не мог; а если вещь даже и нравилась, я в конце концов испытывал только ужасную горечь, словно приобрел краденое; да еще необъяснимый страх терзал меня. Короче говоря, сделать выбор я был не в состоянии. На закате жизни эта черточка моего характера стала казаться мне существеннейшим фактором моего позорного бытия.
Так вот, пока я маялся, не зная, что ответить, отец мрачнел и мрачнел, потом не выдержал:
— Ну и как? Книгу или что другое? Как-то в Асакуса в одной лавке я видел новогоднюю маску льва — ну, ты знаешь, маска для танца. Был как раз подходящий размер. Можно надевать на лицо, играть с ней… Хочешь?
Когда вопрос поставлен таким образом, от ответа уже не уйти. Но разве шут способен дать нормальный ответ? Я чувствовал, что с ролью не справился.
— Может, в самом деле, лучше книгу? — Старший брат изобразил на лице серьезность.
— Ну ладно, книгу так книгу. — Отец мрачно захлопнул блокнот, так ничего туда и не записав.
Боже мой, какую промашку я допустил — разозлил отца! А ведь гнев его страшен. Можно ли как-то исправить эту оплошность? В ту ночь я долго вертелся под одеялом, потом тихо встал, прошел в гостиную, открыл ящик стола, куда отец накануне положил записную книжку, достал ее, торопливо перелистал страницы, нашел ту, где отец отмечал заказы, и, послюнив карандаш, написал: маска льва. И потом уже спокойно заснул. Вообще-то эта самая маска мне была совсем ни к чему. Пожалуй, наоборот, лучше было бы получить книгу. Но ведь отец сам хотел подарить мне маску, и потому, руководствуясь желанием вернуть его расположение, глубокой ночью я отважился прокрасться в гостиную…
Как я и .предполагал, за мои чрезвычайные старания воздалось сторицей. Из детской мне было слышно, как вернувшийся из Токио отец говорил матери:
— В магазине игрушек открываю блокнот, смотрю — написано: маска льва. А почерк не мой. Что же это такое? — подумал я и понял: должно быть, штучки Ёдзо. Когда я спросил, что ему привезти, он только улыбался и молчал. А потом, наверное, захотелось ему все-таки маску льва, не удержался и сам записал мне в блокнот. Парень он у нас странный… Захотел — так бы и сказал. Я в магазине прямо так и захохотал. Позови-ка его скорей!
Как-то я собрал в гостиной всех слуг и служанок, одного заставил барабанить на пианино (хотя мы жили в деревне, в нашем доме было все «как у людей»), а сам под эту какофонию плясал «индейский танец», чем ужасно смешил всех. Брат сфотографировал этот мой «танец», а когда сделали фотографии, опять все в доме развеселились: я танцевал, обмотавшись в ситцевый платок, и там, где он расходился, виднелась моя маленькая «штучка». Видимо, и этот эпизод можно считать моей неожиданной победой.
Ежемесячно я получал более десятка журналов для подростков, из Токио мне присылали кучи разных книг; все это я молча проглатывал, всякие там доктора Абрака д’Абры, профессора Нонсэнсы были мне не в диковинку; начитался рассказов о привидениях, разных юмористических рассказов, потешных историй эпохи Эдо, — так что с серьезной миной мог рассказывать уморительные вещи и рассмешить домашних мне не стоило труда.
Но была еще — о ужас! — школа.
Там меня начали было уважать. Но это как раз и смущало меня. Я ведь обманывал ближних своих, ведь око Всевидящего и Всемогущего видело меня насквозь, я хорошо понимал это и оттого ощущал жгучий стыд, совершенно нестерпимый, — а среди людей это называлось «быть уважаемым»… Всеведущему известно, что «уважаемый» — обманщик, люди когда-нибудь все равно узнают об этом, они поймут, что были обмануты, и какова же будет их ярость! о боже, какой будет их месть!!! Даже представить себе страшно, волосы дыбом встают.
Уважение в школе я заработал не столько тем, что происхожу из богатой семьи, сколько благодаря своим способностям. С детства я был хвор и часто пропускал школу
— месяц, два, а то и чуть ли не весь учебный год; тем не менее, когда в конце года я приезжал на рикше в школу, чтобы сдать экзамены, оказывалось, что я едва ли не самый толковый ученик в классе. Да когда и посещал школу, совсем не занимался, на уроках рисовал карикатуры, потом во время переменок показывал ребятам, и те смеялись до упаду. Школьные сочинения у меня всегда получались потешными, учителя постоянно делали мне замечания, но от своего я не отступал. Я ведь знал, что сами учителя с удовольствием читают эти мои россказни, только вслух не признаются в этом.
Однажды я написал сочинение (по своему обыкновению в чрезвычайно грустных тонах), повествующее о том, как мать взяла меня с собой в Токио и в дороге я сходил по-маленькому в плевательницу в проходе вагона. Отдал сочинение учителю, абсолютно уверенный в том, что оно его рассмешит, крадучись последовал за ним к дверям учительской. Еще в коридоре учитель достал из стопы мою тетрадку, раскрыл ее и начал хихикать. Потом я подглядел, как в учительской он, видимо, закончив читать, громко расхохотался и стал давать мою тетрадку другим учителям. Мне было ужасно приятно лишний раз удостовериться в своих предположениях.
Все-таки удалось прослыть просто потешным малым и таким образом бежать уважения. В табеле по всем предметам стояло 10 баллов, и только по поведению то 6, то 7, что тоже вызывало дома много смеха.
Однако же в сущности я отнюдь не был потешным малым. Совсем наоборот. В эти годы служанки и слуги обучили меня кое-каким гнусностям, целомудрия я лишился… Сейчас мне кажется, что по отношению к ребенку из всех возможных злодеяний человеческих то, о чем я пишу, — наибезобразнейшее, наинизчайшее и жесточайшее преступление. Но я сносил, я терпел. Так мне пришлось узнать еще одну сторону человеческого бытия, и я мог лишь бессильно смеяться над этим. Если бы я привык говорить правду, то, очень может быть, безо всякой робости рассказал бы отцу с матерью, что сделали со мной слуги; но беда была еще и в том, что у меня с родителями не было взаимопонимания. На чью-либо помощь рассчитывать не приходилось. Обратись я к отцу, к матери, к полиции, к правительству — чего я в конце концов добьюсь? Все равно мнение сильных мира сего прижмет меня к стенке. И только.
Я прекрасно знаю о том, что в нашем мире существует несправедливость и что тщетно взывать к людям; сам я никогда не говорил того, что думаю, постоянно скрывал свои мысли и считал, что мне не остается ничего другого, как только продолжать паясничать.
«Ты что?! О каком неверии в человека ты говоришь? С каких пор ты рассуждаешь как христианин?» Не исключено, что найдутся люди, которые могут меня так спросить, и не без насмешки. Но, по-моему, неверие в людей совсем не обязательно связано с религией. Ведь и в самом деле, разве люди, включая и насмешников, не живут припеваючи без дум об Иегове или о ком другом, в атмосфере взаимного недоверия, в неверии друг другу?
Вспоминается такой случай из детства. Однажды в наш городок приехала выступать знаменитость — член партии, к которой принадлежал и отец. Вместе со слугами я пошел в театр слушать эту знаменитость. Зал был полон, то и дело встречались люди, с которыми отец был дружен. Знаменитости все долго рукоплескали, а когда собрание закончилось и присутствовавшие небольшими группками стали расходиться по домам, я, шагая ночью по заснеженной улице, слышал, как они в пух и прах разносили сегодняшнюю речь своего кумира. Среди тех, кто поносил собрание, были и близкие друзья отца. Отцовы «друзья и единомышленники» сетовали, что и вступительное слово, которое произнес отец, никуда не годится, и речь знаменитости — черт знает что такое… И они же, войдя к нам в дом, с сияющими физиономиями сообщали отцу, что собрание прошло чрезвычайно успешно. Слуги — и те! — на вопрос матери: «А как выступление гостя?» — отвечали: «Замечательно, замечательно интересное выступление!» И тут же, расходясь, говорили друг другу, что нет ничего тоскливее таких собраний.
Но это еще не самый яркий пример.
Все-таки удивительно, что, обманывая друг друга, никто из людей, как видно, этим не мучается — обмана будто бы вовсе не замечают. И это притом, что жизнь человеческая дает нам уйму примеров недоверия, недоверчивости — примеров выпуклых, совершенно очевидных. Не могу я принять такой взаимный обман. Хотя сам-то я, паясничая, с утра до вечера только тем и занимаюсь, что всех обманываю… Добродетель — справедливость на уровне школьного учебника морали — не привлекает меня. Но понять людей, которые, явно обманывая, живут или считают, что могут жить чисто, ясно, незамутненно, — понять, принять этих людей я тоже не в состоянии. Но почему-то люди до сих пор не уяснили такие потрясающе простые истины. Да я и сам, если б вовремя постиг их, не стал бы так тщательно изучать людские повадки, не скатился бы до того обхождения, которым я людей пользую. И не пришлось бы мне противопоставлять себя законам человеческой жизни, переживать ночами муки, поистине адские. Ведь вот на отвратительное злодеяние слуг и служанок я никому не пожаловался не потому, что не верю в людей, и, конечно, не из-за христианской догмы, а потому, что люди плотно закрыли створки доверия передо мной, человеком по имени Ёдзо. Да, я думаю именно так. Отец с матерью — и те, бывало, не находили нужным скрывать, что я недосягаем для их понимания.
И то, что я не из тех, кто, пользуясь симпатией к себе людей, станет им особенно досаждать, особым инстинктом, чутьем поняли многие женщины; они учуяли мое одиночество, что позволяло им пользоваться мною, как кому заблагорассудится. То есть я просто хочу сказать, что для женщин я был человеком, способным сохранять любовные тайны. (Продолжение читайте внизу с помощю Calameo)


ДФДЗАЙ ОСАМУ САЙЛАНМАСИНИ САLAMEO ДАСТУРИ ЁРДАМИДА ЎҚИШИНГИЗ,ПРИНТЕРДАН ЧИҚАРИШИНГИЗ ВА ЮКЛАБ ОЛИШИНГИЗ МУМКИН.

Да ждать трудно но оно того стоит
shuni uzbekcha tarjima qilib berin iltimos
Yoqdi rahmat