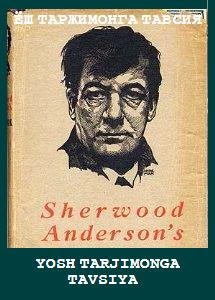Шервуд Андерсон — один из наиболее выдающихся американских новеллистов
XX века. Творчество Андерсона, писавшего в разных жанрах, неоднородно и неравноценно. Своими рассказами он внес большой вклад в мировую литературу. Для понимания творчества Андерсона, и особенно его эстетической теории, важна его автобиографическая «История рассказчика» с подзаголовком: «Повесть американского писателя о его странствиях в мире его собственной фантазии и в мире фактов, иллюстрированная многочисленными эпизодами и замечаниями о других писателях».
Творческие своеобразие Андерсона наиболее ярко проявилось в сборниках новелл 20-х годов: «Уайнсбург, Огайо» (1919), «Триумф яйца» (1921), «Кони и люди» (1923).
Уильям Фолкнер
О ШЕРВУДЕ АНДЕРСОНЕ
Перевод Ю. Палиевской
Однажды — а было это в то время, когда мы часто бродили по Новому Орлеану и разговаривали или, может быть, говорил Андерсон, а я слушал,- я увидел, как он сидит на скамейке на Джексон-сквер и смеется, непонятно над чем. У меня создалось впечатление, что вот так он сидит и смеется уже довольно давно. Это не было нашим обычным местом встречи. У нас вообще его не было. Он жил неподалеку от площади, и без всякой договоренности, перекусив в середине дня, зная, что и он тоже пообедал, я шел в направлении к его дому и если не встречал его на площади, то просто садился на край тротуара, откуда была видна его входная дверь, и ждал, когда он появится в своем ярком, полужокейском, полубогемном, костюме.
На этот раз он сидел один на скамейке и смеялся. Тут же он рассказал мне, что с ним произошло. Он видел сон: накануне ночью ему приснилось, как он идет по проселочной дороге, ведет под уздцы лошадь и пытается обменять ее на ночной сон — не на обычную кровать, а именно на сон; и теперь, имея рядом с собой слушателя, он продолжил свой рассказ, развивая и додумывая его, превращая в произведение искусства; казалось, он просто не знал, как обо всем этом рассказать, но на самом деле он мучительно, упорно искал нужные слова, с тем настойчивым терпением и смирением, с которым он обычно работал над всеми своими произведениями, а я слушал его и не верил ни единому слову — во всяком случае, не верил тому, что это действительно был сон. Потому что я знал, я был уверен, что он все это придумал. Именно в тот момент, когда я сидел и слушал ?ГО, он сочинил если не весь сон, то по крайней мере большую часть. Он и сам не понимал, зачем ему понадобилось меня уверять, что это сон, и почему вообще должна существовать какая-то связь со сном, а я знал. Я знал, что он включил всю свою жизнь в одну историю или, может быть, притчу, и та лошадь, которая поначалу была скакуном и стала теперь простой рабочей лошадью для разъездов или пахоты, здоровой, сильной и полезной лошадью, хотя и без родословной, воплощала для него полнокровный, богатый, необозримый размах долины Миссисипи, его Америку, которую он в своей ярко-голубой жокейской рубашке с красным в крапинку богемным виндзорским галстуком предлагал с улыбкой, терпением и смирением, а точнее, с одним только терпением и смирением, обменять на мечту о чистоте и цельности, о непрестанном и упорном труде, символом и воплощением которых уже стали «Уайнсбург, Огайо» и «Торжество яйца».
Сам он никогда бы этого не сказал, не выразил словами. Быть может, он не смог бы даже понять этого, а если бы я и попытался ему на это указать, он, уж конечно, решительно все бы отверг. И не потому, что, возможно, это было неправдой, и не потому, что — в любом случае, будь это правдой или ложью,- он бы мне не поверил. Было это правдой или нет, поверил бы он мне или нет — не имело ровно никакого значения. Он бы все отрицал из-за той величайшей трагедии, которая составляла суть его характера. Он всегда подозревал людей в том, что они смеются, издеваются над ним. Он считал, что люди, которые даже сравниться не могли с ним по своему положению, уму или достоинствам,- даже и эти люди способны поставить его в смешное положение.
Именно поэтому ему все давалось тяжелым, мучительным и неустанным трудом. Он работал так, как будто раз и навсегда сам себе приказал: «На этот раз должно, обязано получиться безупречно». Он писал не из-за той всепоглощающей, неусыпной, неутолимой жажды славы, ради которой любой художник готов пожертвовать собственной матерью, а ради того, что было для него более существенным и безотлагательным,- не просто ради правды, а ради чистоты, безупречной чистоты. Ему не были свойственны ни мощь и стремительный натиск Мелвилла, который приходился ему дедом, ни страстное влечение к жизни Твена — его отца, ему чужды тяжеловесность и пренебрежение нюансами старшего брата — Драйзера. Он ощупью искал пути к совершенству, искал точные слова и безукоризненные фразы, не выходя из рамок своего словаря, полностью подчиняя его простоте, которая была уже на грани фетиша, ради того чтобы выжать из этой простоты все, проникнуть в самую суть вещей. Он так преданно работал над стилем, что в результате получал один лишь стиль, то есть средство превращалось в цель. Вскоре он сам начал верить, что, если ему удастся сохранить этот чистый, безупречный, безукоризненный стиль, все остальное, стоящее за этим стилем, да и сам он будут на высоте.
На том этапе своей жизни он должен был в это верить. Его мать была служанкой, отец поденщиком. Социальная среда внушала ему, что материальная независимость — смысл жизни. И все-таки, став старше, он отказался от подобного убеждения, хотя и пришел к этому значительно позже, чем большинство людей, которые решают посвятить себя искусству и писательскому труду. Впрочем, придя к такому решению, он вдруг понял, что является автором одной-двух книг. И вот тогда он убедил себя, что если ему удастся сохранить чистоту стиля, то, что стоит за этим стилем, тоже станет безукоризненным, совершенным. Поэтому он вынужден был защищать свой стиль. Поэтому он был так зол и обижен на Хемингуэя за его «Вешние воды» 1и в меньшей степени на меня, потому что моя вина состояла в частном издании небольшой книги, о которой за пределами Нового Орлеана не знали и не слышали, зол из-за книги карикатур Спрэтлинга, которую мы назвали «Шервуд Андерсон и другие знаменитые креолы» и к которой я написал небольшое предисловие в упрощенном стиле самого Андерсона 2. Ни Хемингуэй, ни я никогда бы не могли задеть или высмеять его творчество. Мы просто постарались сделать так, чтобы стиль его стал выглядеть нелепым и смешным; а в то время, уже после выхода «Темного смеха», когда он уже дошел до предела и ему фактически следовало бы бросить писать, ему не оставалось ничего другого, как защищать свой стиль, любой ценой, потому что в то время и он тоже должен был уже признать, хотя бы в душе, что больше ему ничего не остается делать.
Безупречная чистота или чистая безупречность, и то и другое одинаково верно. Он был сентиментальным в отношениях с людьми и очень часто ошибался в них. Он верил в людей, но как будто только в теории. Он ожидал от них худшего, и каждый раз был готов разочароваться и даже страдать, будто этого никогда не случалось с ним раньше, будто единственными людьми, которым он мог по-настоящему верить, с которыми мог общаться, были те, которых он выдумал сам: символы и образы его туманных снов. Иногда он писал сентиментально (но ведь так иногда писал и Шекспир), однако и в этом случае не изменял чистоте стиля. Он никогда ничего не упрощал, не впадал в слащавость, не шел легким путем; он всегда относился к писательству с чувством смирения, с неистовой, почти религиозной верой, терпением, желанием целиком отдаться ему, забыться в нем. Многословность ему претила; слишком стремительная манера письма тоже казалась фальшивой. Как-то он сказал мне: «Ты слишком талантлив. Ты можешь писать по-разному, и у тебя все слишком легко получается. Если ты не будешь стараться, ты никогда ничего дельного не напишешь». В те дни, когда мы гуляли вдвоем по старым кварталам и я слушал, а он говорил со мною или с незнакомыми людьми — с кем и где угодно, с людьми, которых мы встречали на улицах и в доках,- или когда мы сидели за бутылкой, он, с моей небольшой помощью, создал еще несколько фантастических образов, вроде человека с лошадью из сна. Один из них был потомком Эндрю Джексона, забытым в болотах Луизианы после Шалметтского сражения 3; это была уже даже не полулошадь и полуаллигатор, а сначала получеловек-полуовца, а вскоре уже полуакула, которая — как и вся притча в целом — в конце концов стала настолько неуправляемой и, как нам казалось, такой смешной, что мы решили все это записать и сделать рассказ в письмах, которые могли бы написать друг другу два участника зоологической научно-исследовательской экспедиции, оказавшиеся на время вдали друг от друга. Я принес ему свой первый ответ на его первое письмо. Он прочитал. Спросил:
«Тебе это нравится?»
«Что вы хотите этим сказать, сэр?»
«Тебе нравится то, что ты написал?»
«Да, а что? Все, что не вошло в это письмо, войдет в следующее». И тогда я понял, что мои слова рассердили его: он ответил резко, кратко, почти зло. Он сказал:
«Либо ты выбросишь все это, и мы прекратим работу, либо возьмешь письмо назад и переделаешь». Я забрал письмо. Три дня я работал над ним и наконец снова принес ему. Он опять прочитал письмо, довольно медленно, как всегда, и спросил:
«Ну а теперь тебе нравится?»
«Нет, сэр,- сказал я,- но лучше я пока сделать не могу».
«Тогда пойдет»,- сказал он и положил письмо в карман; голос его потеплел, стал мягким, и в нем уже снова слышался смех и готовность снова поверить и снова страдать.
Этот урок научил меня многому, хотя я не всегда следовал его совету, как в тот раз. Я понял, чтобы быть писателем, прежде всего необходимо быть тем, что ты есть, для чего ты рожден; чтобы быть американцем и писателем, совершенно не обязательно без конца писать о традиционных американских образах, таких, как, например, страдающая Индиана у Драйзера 4 или — у самого Андерсона — Огайо, кукурузные поля Айовы, скотобойни у Сэндберга 5 или лягушка у Твена 6. Необходимо только помнить о том, что ты есть на самом деле. «Надо, чтобы было с чего начать, и тогда начинаешь учиться»,-сказал он мне. «Не важно, что это, просто об этом надо помнить и не стыдиться этого. С чего бы ты ни начал, важно, чтобы было с чего начать. Ты деревенский парень, все, что ты знаешь,- это крохотный клочок земли в Миссисипи, откуда ты родом. Но и этого достаточно. Это тоже Америка: пусть самый маленький и неизвестный ее уголок, но вытащи его, как кирпичик из стены,- и стена развалится».
«Если, конечно, это не зацементированная и не оштукатуренная стена»,-возразил я.
«Да, но Америка еще не зацементирована и не оштукатурена. Ее здание еще строится. Именно поэтому тот, у кого в жилах текут чернила, а не кровь, не просто может, но должен неустанно бродить по стране, общаться с людьми, слушать, смотреть, учиться. Вот почему такие невежественные и необученные парни, как мы с тобой, не просто имеют возможность писать, они обязаны писать. Все, чего требует Америка,- это чтобы ты смотрел, слушал, пытался по возможности понять. Однако и понимать не так уж важно: главное — поверить, даже если всего и не понимаешь, а затем уже попытаться написать. Никогда не получится так, как тебе хочется, но всегда можно попробовать еще раз, всегда найдутся чернила и бумага, да и все остальное, чтобы попытаться понять, рассказать об этом. Как следует сразу не выйдет. Но ведь всегда есть еще одна возможность. Потому что завтра Америка будет в чем-то другой, в ней будет много нового, такого, что стоит понаблюдать, послушать, попытаться понять, а если не сможешь понять — хотя бы поверить.
Верить, верить в ценность чистоты и в нечто большее. Верить не просто в важность, а в неизбежность честности, цельности; счастлив тот, кто есть художник по призванию, кто верен своему предназначению, потому что в искусстве не ждут наград, как почтальона по утрам.
У него это доходило до крайности. На первый взгляд это может показаться невозможным. Я имею в виду, что в зрелые годы он, вероятно, признался себе сам, что у него остался только стиль, над которым он работал так много и так усердно, с таким самопожертвованием, что иногда казалось, что сам он значительнее, выше своего стиля. Он был добрым, веселым, любил смеяться, не был мелочным, завидовал только внутренней цельности, так как считал это качество совершенно необходимым для того, кто захочет понять его творчество; он был готов раскрыться перед каждым, как только убеждался, что к его искусству относятся так же, как и он сам, с уважением и смирением. За те дни и недели, что мы провели в Новом Орлеане, я постепенно начал осознавать, что рядом со мной человек, который проводит каждое утро в уединении — работает. Он появлялся в полдень, и мы гуляли по городу, разговаривали. Вечером мы встречались снова, на этот раз за бутылкой, и теперь мы уже могли спокойно поговорить; сидя в тех тенистых двориках, где гулко раздавался звон стакана, случайно задетого за бутылку, а от еле заметного движения воздуха листья пальмы шуршат, как сухой песок, мы переживали мгновения, вмещавшие в себя целый мир. Наступало утро, и он снова уединялся и работал. И тогда я сказал себе: «Если это все, что требуется, чтобы стать писателем, то такая жизнь по мне»».
Так я начал писать роман «Солдатская награда». Я знал миссис Андерсон раньше, чем познакомился с ним самим. Как-то я встретил ее на улице после того, как какое-то время не бывал у них. Она посетовала, что я стал у них редкий гость. Я сказал, что пишу роман. Она спросила, хочу ли я, чтобы Шервуд взглянул на него. Точно не помню, что я ответил, но смысл сводился к тому, что я буду не против, если он, конечно, захочет. Она сказала, чтобы я принес роман, как только я его закончу, что я и сделал два месяца спустя. Через несколько дней она прислала за мной и сказала: «Шервуд говорит, что предлагает сделку. Если ему не надо будет читать роман, он попросит Ливерайта (а Хорес Ливерайт был в то время его издателем) опубликовать роман».
«Идет»,- сказал я, и на этом все кончилось. Ливерайт издал книгу, и после этого я видел Андерсона всего один раз, потому что за это время произошла та самая неприятная история с карикатурой, из-за которой он отказывался встречаться со мной в течение нескольких лет, пока однажды мы случайно не встретились на коктейле в Нью-Йорке; и вновь на какое-то мгновение он показался мне значительнее, выше всего того, что он писал. Но потом я вспомнил «Уайнсбург, Огайо» и «Торжество яйца» и отдельные рассказы из сборника «Кони и люди» и понял, что вижу, наблюдаю гиганта на земле, которую населяет много, слишком много пигмеев, даже если ему и удалось сделать лишь два или, может, три движения, поистине достойных гиганта.
1953
КОММЕНТАРИИ
[А. Н. Николюкин]
О Шервуде Андерсоне (A Note on Sherwood Anderson)
Впервые в журн.: «Atlantic», июнь 1953 г. Перевод по кн.: Essays, где текст напечатан по авторской машинописи. Впервые на русском языке: Слово о Шервуде Андерсоне. Перевод А. Долинина. — «Аврора», 1977, № 2, с. 55-58.
1 «Вешние воды» (1926) — повесть Хемингуэя (название заимствовано у И. С. Тургенева), в которой пародируется стиль одного из наиболее слабых романов Ш. Андерсона «Темный смех» (1925) и стилистические изыски Гертруды Стайн в ее книге «Создание американцев» (1925).
2 «Шервуд Андерсон и другие знаменитые креолы».- В декабре 1926 г. в Новом Орлеане, вышла книга рисунков Уильяма Спрэтлинга «Шервуд Андерсон и другие знаменитые креолы: панорама современного Нового Орлеана» с предисловием Фолкнера, в котором он пародирует стиль Ш. Андерсона, что повело к охлаждению дружбы между ними.
3 Шалметтское сражение.- 8 января 1815 г. вблизи Нового Орлеана американский генерал Эндрю Джексон (1767-1845), ставший позднее седьмым президентом США (1829-1837), разбил английские войска. В 1907 г. на месте битвы был устроен Шалметтский национально-исторический парк.
4 Индиана у Драйзера.- Имеется в виду книга Т. Драйзера «Каникулы уроженца Индианы» (1916).
5 Скотобойни у Сэндберга.- Речь идет о первом поэтическом сборнике Карла Сэндберга «Чикагские стихи» (1916).
6 Лягушка у Твена — рассказ Марка Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1865).
В. Я. Звиняцковский
ШЕРВУД АНДЕРСОН И ЧЕХОВ
Выдающийся американский писатель Шервуд Андерсон (1876—1941) был всего на 16 лет моложе Чехова, но, вступив в литературу 36-летним, оказался участником таких литературных событий, которые на первый взгляд представляются отдаленными от чеховской эпохи не промежутком в одно поколение, а чуть ли не “вековой” пропастью, не говоря уже о “пропасти” межконтинентальной.
Андерсон явился в литературу как выразитель “американского духа”, свободный от европейских влияний; он следовал лишь американской традиции: Торо, Готорн, Мелвилл, Мастере…
Эта линия развития американской литературы легко находила отклик в России. Приведем лишь один, но важный для нашей темы пример. В 1887 г. А. С. Суворин по совету Л. Н. Толстого начал публиковать в своей газете главное произведение Генри Торо “Уолден, или Жизнь в лесу” (под названием “В лесу”). В основе этого необычного в литературном отношении, чисто американского шедевра — дневниковые записи автора, построившего своими руками дом на берегу озера и уединившегося там на два года. Цель — удалиться от человеческого общества, где “масса людей ведет жизнь тихого отчаяния”, совлечь с самого себя “грязный слой мнений, предрассудков и традиций, заблуждений и иллюзий” и “попытаться нащупать твердую почву”.
Это — тот джентльменский набор этико-эстетических формул, из которого поколение американских писателей начала XX века, во главе с Шервудом Андерсоном и его другом Теодором Драйзером, “вышло”, как русские реалисты из гоголевской “Шинели”. И молодой Чехов тоже немедленно откликнулся на публикацию Суворина. В письме к молодому же Короленко он отмечает “свежесть и оригинальность” этой вещи Торо, но тут же и жалуется, что “читать трудно”: “Красивые и некрасивые, легкие и тяжеловесные мысли нагромождены одна на другую, теснятся, выжимают друг из друга соки и, того и гляди, запищат от давки” (II, 130).
Как сам Чехов решил проблему сочетания “свежести и оригинальности” с тем, чтобы читать (ставить, смотреть и т. п.) было легко, — всем известно. Тем же путем, отвечавшим насущным потребностям развития мировой прозы и драматургии, шел Шервуд Андерсон. Во всяком случае, по утвердившемуся в американской критике мнению, именно Андерсона “можно назвать основоположником современного американского рассказа”1. Но и становление “чеховской школы” в англоязычной прозе также традиционно связывается с его именем2 — особенно с первыми сборниками рассказов — “Уайнсбург, Огайо” (1919) и “Триумф яйца” (1921); о последнем Вирджиния Вулф писала, что в нем “сталкиваешься с таким перераспределением первоэлементов искусства, которое заставляет широко раскрыть глаза от удивления. Это напоминает то чувство, с каким впервые читаешь Чехова”3.
А между тем сам Андерсон неоднократно заявлял, что совершенно не был знаком ни с Чеховым, ни вообще с русской литературой в период написания рассказов, вошедших в эти первые сборники. Ему вторили американские критики, начиная от первых (газетных) рецензентов “Уайнсбурга”, и с ними трудно не согласиться. Для тех художественных задач, которые ставил и решал в своих рассказах Шервуд Андерсон, традиции Торо и Мелвилла были первичны, а в плане “технического” ученичества чтение Джеймса и Мастерса, казалось, могло заменить чтение Достоевского, Тургенева, Чехова…
Могло — но не заменило. Американские биографы Ш. Андерсона считают, что в пору ошеломительного успеха “Уайнсбурга” и “Триумфа яйца” он намеренно скрыл свое знакомство с русской литературой, и прежде всего с Чеховым. Цель предлагаемой публикации мемуарных и эпистолярных материалов, впервые переведенных мною на русский язык (а два письма, извлеченные из фондов РГАЛИ, никогда не публиковались также и в оригинале), — проследить так называемое “чеховское влияние” на американского писателя в его сложности, своеобразии и эволюции.
***
Хотя сравнение с Чеховым в устах Вирджинии Вулф и означало для Андерсона, по мнению его биографов, пропуск «в “международное” сообщество художников и писателей»4, однако само по себе оно мало проясняет сущность “чеховской школы” в американской литературе и процесс усвоения европейских влияний самим Андерсоном, на деле протекавший несколько иначе, чем это представлялось Вирджинии Вулф.
В 1914 г. в Чикаго Андерсон близко сошелся с теми литературными кружками, деятельность которых впоследствии стала известна как “чикагский Ренессанс”. “Они, — пишет Ирвинг Хау, — чувствовали органичную связь с современными европейскими реалистами, а в Америке не видели сколько-нибудь ценной, приемлемой для них культурной традиции”5. “Уайнсбург” задуман и начат в виде отдельно публикуемых рассказов именно в это время, и недаром Эрнест Бойд в предисловии к одному из первых изданий книги писал: “За незамысловатыми историями жителей Уайнсбурга угадывается глубокий смысл, то откровение, какое мы привыкли находить у великих русских писателей. При этом рассказы Андерсона заставляют вспомнить скорее Чехова, чем Достоевского, поскольку в них прежде всего поражает умение скупыми средствами передать все многообразие жизни”6.
Однако ряд влиятельных американских критиков сразу же оспорили правомерность такого сравнения. Так, автор одного из первых критических отзывов на “Уайнсбург”, Х. У. Бойнтон, писал: “В этих рассказах < …> нет и в помине духовных притязаний русских реалистов и их подражателей. Мистер Андерсон — из школы Стивенсона, но при этом он еще и морализатор: любит дать четкую постановку вопроса и ясный короткий ответ”7. Разумеется, одна из причин возникшего противопоставления состояла в том, что из Чикаго или Нью-Йорка русская провинция Достоевского или Чехова воспринималась как абстрактная “духовная” провинция, а Уайнсбург Шервуда Андерсона — как вполне бытовая “одноэтажная Америка”, настолько бытовая, что ее изображение ощущалось как простое бытописательство, цикл “зарисовок с натуры”, почти бесформенный.
Кстати, именно так оценивали и чеховские рассказы их первые критики — и точно так же, как это было с формой чеховских рассказов, “лирическая форма” рассказов Андерсона вполне вошла в читательское сознание лишь со временем. Но характерно, что и после этого чеховское влияние на Андерсона критики категорически отрицали. Так, Уолдо Фрэнк в статье «“Уайнсбург, Огайо”: двадцать лет спустя» замечал: «Первое, что поразило меня при перечитывании, — так это то, что “Уайнсбург” имеет форму: и книга как целое, и большинство рассказов. Это — цельное творение. Его форма — лирическая, хоть она и не имеет никакого, даже отдаленного родства с эстетикой Чехова»8. В то время, когда Уолдо Фрэнк перечитывал Андерсона и писал эту статью (конец 30-х гг.), сам автор “Уайнсбурга” о своем “родстве с эстетикой Чехова” думал совершенно иначе, но об этом ниже.
Устанавливать факты литературных влияний на Андерсона трудно, поскольку они сознательно завуалированы многослойностью мемуарного и автобиографического “жизнетворчества” Шервуда Андерсона. Если даже оставить в стороне те случаи, когда о “русском влиянии” Андерсон проговаривается в отдельных письмах и статьях, а ограничиться лишь специально-автобиографическими произведениями — “Историей рассказчика”, написанной в начале 30-х, и посмертно изданными “Мемуарами”, написанными в конце 30-х — начале 40-х годов, то и тогда полученные фактические сведения окажутся достаточно скупыми и подлежащими перепроверке по другим источникам. Прежде всего в такой перепроверке нуждается подборка высказываний о “чеховском влиянии” в “Мемуарах Шервуда Андерсона”, открывающая предлагаемую публикацию.
В литературную среду, открытую европейским влияниям, Андерсона ввел Флойд Делл — «второстепенный романист “из молодых”…»9. Процесс усвоения этих влияний Делл подробно описал в своей книге “Интеллектуальное бродяжничество” (1926), приводя примерно тот же список наиболее влиятельных европейских писателей, что и в “Мемуарах Шервуда Андерсона”. В этой среде, согласно собственному мемуарному свидетельству писателя, он и “услыхал” о русских классиках (“новый мир их книг открылся мне гораздо позднее”).
Очевидно, именно это место в мемуарах Андерсона его биографы и рассматривают как основную “обмолвку”, зачеркивающую все его уверения в том, что ни Чехов, ни Тургенев не могли повлиять на его первые новеллистические сборники. Впрочем, Ирвинг Хау, кроме “замечания, проскользнувшего в мемуарах”, насчитал еще “два высказывания в письмах и отдельные места автобиографии”, противоречащие утверждению Андерсона, что он вообще не читал русских до выхода “Уайнсбурга” < …> Да и можно ли, — восклицает биограф, — принять на веру все, что Андерсон говорил о своем прошлом? Например, в начале 20-х годов его издатель — возможно, по просьбе Андерсона и уж во всяком случае с его согласия — публично заявил, что Андерсон не читал “Антологию реки Спун” до того, как закончил “Уайнсбург”, и настаивал, что книга Мастерса вышла в свет уже после того, как отдельные новеллы “Уайнсбурга” были напечатаны в журналах. И хотя то и другое неверно, Андерсон не потрудился исправить своего издателя. Как многие писатели без образования, он наверняка боялся, что признание литературного влияния поставит под сомнение значительность и оригинальность его произведений10. А Фредерик Дж. Хоффман утверждает, что Андерсон “ревниво относился к разговорам о своей неоригинальности. У него была такая привычка: если его с кем-то сравнивали или при нем говорили о ком-то, чьи мысли казались ему похожими на его собственные выношенные мысли, то он обязательно разыскивал и прочитывал книги этого автора”. И тут же, ссылаясь на собственное замечание Андерсона в “Истории рассказчика”, Хоффман пишет: “Когда критики указали ему на русское влияние, он стал читать русских”11. Однако если в “Мемуарах” верно описана та ситуация, в которой Андерсон впервые “услыхал” о русской литературе, то, конечно, вряд ли знакомство с ней он отложил до того момента, когда его собственные рассказы стали печатно с нею сравнивать…
Такой же пример запутанности вопроса о “влиянии” представляет собой история термина “фаллический Чехов”, который прочно закрепился за Андерсоном в американском литературоведении XX в. 12 и многое объяснял его современникам: объяснял как его сходство с русским классиком, так и существенное отличие его эстетики от чеховской. Сам Андерсон любил играть этим термином, любил демонстративно вдумываться в его значение, как он делал это в “Истории рассказчика”.
«Я уже опубликовал несколько рассказов, и, по не совсем понятной мне причине, очень многие рассердились на мои рассказы. Я получил много оскорбительных писем. Меня называли извращенным, насквозь испорченным человеком. < …> Даже мой друг Пол Розенфелд называл меня “фаллическим Чеховым”. Не страдал ли я эротоманией? Не был ли я пропащим человеком?»13
При этом, как утверждает “рассказчик”, многим его читателям “извращенными” казались именно те рассказы, в которых все его существо “совершенно обезличивалось, изливая себя на бумаге в написанных словах”14. Это как раз то, что Чехов называл своей “объективностью”, а Л. Н. Толстой — чеховской “искренностью”, благодаря которой он создал “новые для всего мира формы”, но тот же Толстой (после чтения “Дамы с собачкой”) — “неразделением добра и зла” (“почти животные”). Та же логика породила и термин “фаллический Чехов” (разумеется, никакой “эротомании” в чеховских произведениях нет — но нет ее и в андерсоновских: просто первые читатели Чехова еще не были знакомы с Фрейдом, а в пору литературного дебюта Андерсона фрейдизм был на пике популярности).
***
Одним из замечательных источников русского влияния в западной литературе, прежде всего в драматургии, явились гастроли труппы Художественного театра по Европе и Америке в начале 20-х гг. На спектаклях “художественников” западный зритель из первоисточника знакомился с русской классикой, сразу становившейся близкой, понятной десяткам тысяч людей.
«Дорогая госпожа Чехова, я видела вас в “Трех сестрах” < …> — писала 4 февраля 1923 г. одна из многочисленных американских почитательниц таланта О. Л. Книппер. — < …> В течение всего спектакля вы воплощали многих и многих из нас < …> Будет ли когда-нибудь ответ на то, о чем Ольга спрашивает в конце спектакля?.. А если ответ придет, поможет ли он нам хоть в чем-нибудь преодолеть свое серое скованное бездействие?»15
Всего за неделю до этого письма — 27 января — не менее сильным впечатлением от увиденного там же, в Нью-Йорке, “Вишневого сада”16 делится со своим русским переводчиком П. Охрименко Шервуд Андерсон.
В короткой андерсоновской фразе: “Я смог бы жить в водовороте русской жизни, понимать ваш язык и — писать пьесы” — сконцентрировано то сильное эмоциональное впечатление, которое он испытал от мхатовского спектакля.
Почему же именно после просмотра “Вишневого сада” Андерсон принял решение испытать себя в драме? Очевидно, чеховская пьеса и мхатовский спектакль помогли ему осмыслить необходимость проверки на театре тех истин, художественное открытие которых знаменовали его новеллы. Они же и помогли осознать ту тенденцию “депрофессионализации” или “детеатрализации” мировой драмы, которая предрешила успех пьесы “Яйцо”.
Этот кризис профессиональной драматургии и вызванное им настоящее нашествие в театр непрофессионалов оказались вообще характерны для театральной культуры конца XIX — начала XX в. на ее магистральных направлениях (вспомним лишь историю создания самого МХТ) и в высшей степени характерны также для американского театра 20-х годов. Для примера вновь сошлемся на Флойда Делла, который свел Андерсона с представителями “чикагского Ренессанса”, но вскоре первым из писателей Среднего Запада отправился завоевывать Нью-Йорк. Здесь он вскоре входит в группу таких же молодых и радикально настроенных писателей (среди них Джон Рид и Майкл Голд), которая в историю американской литературы и театра вошла как “Провинстаунская труппа”. Ни один из ее участников, как подчеркивает современный исследователь, “не был до того профессионально связан с театром”
— они “интересовались искусством, литературой и политикой, а не театром как таковым” и “отвергали давно бытовавшее мнение, будто сочинение пьес — это узкоспециальное и нехудожественное по существу занятие”17.
Теодор Драйзер еще в 1915 г. призывал одного из критиков-единомышленников брать за эталон не “тривиальные” местные образцы, а “подлинные достижения литературы, такие как драма Чехова < …>”18. Неудивительно, что во время поездки по СССР в 1927—1928 гг. Драйзер особое внимание уделил театру — не только экскурсии в музей МХАТ, но и (судя по его собственному заявлению в Харькове) современной “постановке театрального дела”19; беседам не только со Станиславским, но и с Таировым, который поразил его заявлением о том, что “самые жизненные пьесы современности рождаются сейчас в Америке”20. В 1928 г. также и Джон Дос Пассос возвращается из поездки по России и организует в Нью-Йорке “Театр новых драматургов”, где уже в сезон 1928—1929 гг. ставит свою пьесу “Акционерное общество Авиапуть”, воспринятую критикой как произведение, несущее “политические выводы < …> в логике чеховского театра”21.
В свете указанной тенденции неудивительно, что именно знакомство с драматургией Чехова и чеховской театральной эстетикой помогло и Шервуду Андерсону увериться в своей способности “писать пьесы”. Его путь в театр и был во многом путем изучения, развития, а порой и сознательного повторения классического пути “рассказчика” в театр — того, которым тремя десятилетиями ранее прошел Чехов. И, вернувшись в последние годы жизни к драматургическим замыслам, Андерсон мечтает о собственном “Вишневом саде”. Роджеру Серджелу, своему ближайшему другу этих лет, он с особой торжественностью сообщает о том, что читал письма Чехова, которые дали ему новый “самоутверждающий” импульс. Не имея сведений о том, какое именно английское издание писем Чехова было в руках у Андерсона в 1936 г., можно лишь предположить, что одно из писем к О. Л. Книппер должно было бы остановить его внимание. В этом письме Чехов, получив известие из Киева о громадном, отчаянном и проч. успехе “Трех сестер”, говорит о том, что “следующая” его пьеса “будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу” (IX, 220). Ибо в письме к Серджелу Андерсон далее сообщает: “Если я решусь писать следующую < пьесу>, то это будет комедия < …> о южной аристократии”.
Для драматургии США 30-х гг., по мнению критики, “Вишневый сад” уже успел стать “эталоном для наблюдения и описания распада определенного сословия и связанных с ним традиций, будь то в Нью-Йорке или на Юге”22. И такую пьесу по “эталону” чеховской комедии написал не Шервуд Андерсон, а Клиффорд Одетс (“Потерянный рай”), который, как считал американский критик, научился у Чехова прежде всего искусству “строить живой диалог”, в котором “многое кажется < …> случайным < …>, но в действительности все работает на конечную цель” — объяснение характеров “через неспособность общения с ближними”23. Правда, американский исследователь Т. Виннер в обзоре “Чехов в Соединенных Штатах Америки” находил, что “подобный диалог с двойным смыслом” можно встретить еще в пьесах “О’Нейла и Андерсона”24. Но Шервуд Андерсон так и не стал драматургом, имя которого можно было бы поставить рядом с именами Юджина О’Нила (О’Нейла) или Максуэлла Андерсона (историософские и социально-психологические пьесы которого как раз и подходят под выше процитированное определение). Очевидно, уже к началу 30-х гг. дело непрофессионалов в американском театре было сделано, и он потребовал нового витка профессионализации. Ш. Андерсон почувствовал это слишком поздно, когда пьеса “Уайнсбург, Огайо” (написанная в соавторстве с профессиональным режиссером Джаспером Дитером) была закончена. Этот поистине драматический момент в биографии американского писателя и отражает его письмо к Серджелу, где он вновь пытается оправдаться опытом Чехова (см. ниже, с. 739—740).
Готовя для сцены “Уайнсбург”, Андерсон рассчитывал на постановку на Бродвее и повторение успеха первой пьесы “Яйцо”. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Постановка Джаспера Дитера в филадельфийском театре “Хеджроу” (И. Хау называет ее “достаточно тонкой”25) не привлекла внимания бродвейской театральной элиты: Андерсон уже вышел из моды и еще не стал классиком. Он не унывает и готовит инсценировку сборника “Триумф яйца”, но и эта его “новая пьеса” успеха не имеет. В предисловии к ней, написанном в 1937 г., Андерсон (опять-таки очень по-чеховски) предупреждает, что “пьеса требует очень тщательной постановки, в которой удалось бы соблюсти равновесие трагического и комического”; ставить же пьесу только “для смеха” или “только для слез” — значит намеренно “разрушать” ее 26.
Мода на русскую литературу и “чеховский бум” 20-х гг., казалось, навсегда остались в прошлом к тому времени, когда Андерсон в письмах к начинающим писателям Г. Мартин и Дж. П. Каллену, литературоведу К. Дейвенпорту продолжает в качестве эталонов прозы все так же настойчиво указывать рассказы Тургенева и Чехова. «В России < …>, — восклицает он в “Истории рассказчика”, — писатель сидел и писал. О, как хорошо справлялся он со своей задачей, как близок он мне, когда я читаю его! Какое острое ощущение окружающей жизни дает он! Вместе с ним входишь в эту жизнь < …>»27.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гайсмар М. Американские современники. М., 1976. С. 305. Об особенностях новеллы “чеховского типа” в творчестве Шервуда Андерсона см.: Герсон З. И. Чехов и америанская новелла (Ш. Андерсон и Э. Хемингуэй). М., 1948; Звиняцковский В. Я. А. П. Чехов и Шервуд Андерсон // Жанровые формы в литературе и литературной критике. Киев, 1979. С. 85—102.
2 «Хотя чеховская концепция новеллы (short story) как лирически насыщенного фрагмента < …> повлияла на всех новеллистов XX в., наиболее непосредственное воздействие Чехов оказал в начале 20-х годов на трех писателей, которые оказались в центре внимания литературной критики, ибо в своем творчестве полнее других воплотили так называемую “современную” форму новеллы. Это Джеймс Джойс, Кэтрин Мэнсфилд и Шервуд Андерсон» (May C. E. Chekhov and the Modern Short Story // A Chekhov Compenion. Edited by T. W. Clyman. Westport; Lnd., 1985. P. 149).
3 Woolf V. Collected Essays. Lnd., 1966. Vol. 2. P. 114.
4 Gregory H. Editor’s Note // The Portable Sherwood Anderson. N. Y., 1977. P. 338.
5 Howe I. Sherwood Anderson. A biographical and critical study. Stanford, 1966. P. 64—65.
6 Boyd E. Introduction // Anderson. Winesburg, Ohio. N. Y., 1920. P. XIV—XV.
7 Anderson. Winesburg, Ohio. Text and Criticism. N. Y., 1977. P. 260.
8 Ibid. P. 370.
9 Hoffman F. J. The Twenties // American Writing in the Postwar Decade. N. Y.; Lnd., 1962. P. 460.
10 Howe I. Op. cit. P. 93—94.
11 Anderson. Winesburg, Ohio. Text and Criticism. P. 315.
12 Ср.: Гайсмар М. Указ. соч. С. 77.
13 Андерсон Ш. История рассказчика. М., 1935. С. 260, 261.
14 Там же. С. 260.
15 Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ч. II. Переписка (1896—1959). Воспоминания об О. Л. Книппер-Чеховой. М., 1972. С. 137—138.
16 19 января 1923 г. Книппер писала из Нью-Йорка: «< …> с понедельника придется в 6 дней сыграть 8 раз “Вишневый сад” < …> У нас успех огромный» (Там же. С. 137, 141).
17 Литературная история США. М., 1979. Т. 3. С. 359.
18 Letters of Theodor Dreiser. A selection. Philadelphia, 1959. Vol. 1. P. 187—188.
19 Американский писатель Теодор Драйзер в Харькове // Пролетарий (Харьков). 1927. 18 декабря.
20 Dreiser looks at Russia. N. Y., 1928. P. 194.
21 Оттен Н. Дос Пассос в гостях у Чехова // Интернациональная литература. 1933. № 2. С. 121.
22 Brewster D. East-West Passage. A study in literary relations. Lnd., 1954. P. 210—211.
23 Литературная история США. Т. 3. С. 457.
24 ЛН. Т. 68. С. 785.
25 Howe I. Op. cit. P. 238.
26 Brom W. Sherwood Anderson. Minneapolis, 1964. P. 37.
27 Андерсон Ш. История рассказчика. С. 226.
ИЗ “МЕМУАРОВ ШЕРВУДА АНДЕРСОНА”
Все мои знакомые, которые хоть сколько-нибудь интересовались литературой и литературной работой, всегда говорили мне, что О. Генри — великий американский писатель-рассказчик. Но сам я не считал его великим. “У него слишком много трюков”, — думал я. По-настоящему великими нашими рассказчиками я считал Марка Твена, автора “Гекльберри Финна”, и Мелвилла, автора “Моби Дика”. Сам я был вне всяких школ. И лишь спустя много лет я пришел к Чехову и к тургеневским “Запискам охотника”…
***
Бен Хект ходил из угла в угол и без конца цитировал Флобера, которого он недавно прочел; Майк Кэрр часами декламировал стихи Суинберна; Александр Каун все говорил о жизни русской деревни — я тогда впервые услыхал о русских писателях, о Толстом, Достоевском, Чехове, Тургеневе. Новый мир их книг открылся мне гораздо позднее.
Не тогда ли — позднее — один из наших критиков назвал меня “фаллическим Чеховым”?
***
И теперь я думаю, что все прочитанное сильно повлияло на меня и отразилось в моих лучших рассказах.
Одно время я был очарован Гербертом Уэллсом и Арнольдом Беннетом. Позже очень многие критики говорили, что я весь пропитался русскими.
Это не так. Только много лет спустя я стал читать русских — Толстого, Чехова, Достоевского, Тургенева.
Вот тогда-то я и почувствовал свое родство с ними. Может, и самонадеянно так говорить, но оказалось, что Чехов и особенно Тургенев, его “Записки охотника”, очень близки мне. И вскоре Пол Розенфелд, кажется, назвал меня “фаллическим Чеховым”.
Из письма к Полу Розенфелду, после 24 октября 1921 г.
< …> В то время я уже чаще бывал в обществе бизнесменов, чем среди рабочих. Я ездил на всякие встречи и обеды. Эти люди, с которыми я тогда приятельствовал, без конца и очень серьезно говорили ни о чем. В душе у них было пусто, и это приводило их к половой распущенности. Брукс, кажется, как-то назвал меня “фаллическим Чеховым”. Но я не извращенец и не хочу им быть. Я льщу себя тем, что просто стремлюсь сохранить чувство жизни как она есть — здесь и сейчас, на этой земле, среди этих людей.
Из письма к Петру Охрименко, январь 1923 г.
< …> Вчера я получил Ваше письмо, из которого узнал, что Вы переводите мой “Триумф яйца” и хотели бы познакомиться с другими моими книгами, — и, честно говоря, я очень обрадован и польщен и сделаю все возможное, чтобы Вам помочь.
Вы понимаете, конечно, что больше всего я обеспокоен тем, чтобы перевод сохранил, насколько это вообще возможно в переводе, дух моих рассказов. Здесь я полагаюсь на Бога и на Вас, ведь я не читаю по-русски. Пожалуйста учтите вот что. Не пытайтесь рабски следовать оригиналу. Если мои рассказы трогают Вас, то попробуйте передать свое чувство русским читателям.
Когда Вы будете читать мои рассказы, то увидите, конечно, что я очень многим обязан вашим русским писателям, и я буду счастлив, если смогу вернуть частицу долга, доставив эстетическое удовольствие русским читателям, или помогу им лучше понимать нас, американцев.
< …> Я бы даже сказал, что до тех пор, пока я не открыл для себя русских прозаиков, ваших Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, я никогда не читал прозы, которая бы меня удовлетворяла. У нас в Америке сложилась дурная традиция, идущая от англичан и французов. Читатель наших популярных журналов привык требовать от рассказа замысловатого сюжета, фокусов и трюков. И, конечно, в таких рассказах настоящей жизни нет, она отходит на второй план. Сюжет не вырастает из живой драмы человеческих отношений — а у ваших русских писателей жизнь чувствуется в каждой строке… Читая их, я понял наконец, что искусство прозы может проистекать из сочувствия людям и становиться частью самой жизни.
Из письма к Петру Охрименко, 27 января 1923 г.
Дорогой Петр Охрименко.
Я вспомнил Вас. Здесь сейчас Московский Художественный театр, и я посмотрел у них “Вишневый сад”. И думаю теперь, что смог бы жить в водовороте русской жизни, понимать ваш язык и — писать пьесы.
А у нас тут почти в каждой пьесе — надуманный сюжет, который заслоняет жизнь…
Из письма к Петру Охрименко, 5 марта 1925 г.
< …> Вам будет интересно узнать, что одноактная пьеса по рассказу “Яйцо” из сборника “Триумф яйца” этой зимой была поставлена в Нью-Йорке и имела успех.
Из письма к Роджеру Серджелу, 2 мая 1936 г.
< …> Не знаю, что из этого получится, но пьесу я закончил, и вполне возможно, что Джап поставит ее в этом году. Если я решусь писать следующую, то это будет комедия. Мне видится пьеса о южной аристократии.
Я не устоял и показал твое письмо Джапу. Начался спор, который, конечно, ничего не решил. Под конец он сказал:
— Да, возможно, он и прав. Но, с другой стороны, может тебе все же удастся создать для нас новые формы.
Так-то вот.
Читал письма Чехова. Они многое проясняют. Говорю это не для того, чтобы подкрепить то, в чем я и так уверен, но когда Чехов-рассказчик пришел в театр, его ведь на самом деле обвиняли в том же, в чем теперь обвиняют меня. Я спросил у Джапа:
— Чехов — настоящий драматург?
— Да. И при этом он внес нечто новое. Половина всех присылаемых мне рукописей написана под влиянием Чехова.
Я понимаю, все это звучит как самооправдание. Но разве я оправдываюсь? Скорее это — попытка самоутверждения. Я не слишком уверен в себе. Я хотел бы писать пьесы, но смогу ли — это еще вопрос.
Из письма к Кеннету Дейвенпорту, 14 апреля 1937 г.
< …> Что касается теории новеллы, могу сказать одно: я воюю с тем, что принято называть сюжетной новеллой. Не думаю, что на меня оказал какое-либо влияние По, и не верю я в его слишком уж четкие формулы. По моему мнению, саму идею американского рассказа сильно исказил и О. Генри под влиянием Мопассана. Все эти писатели бесконечно проигрывают рядом с такими великими мастерами, как Чехов и Тургенев.
Из письма к Гарриет Мартин, 19 сентября 1939 г.
На месте начинающего писателя я не стал бы пытаться усвоить фокусы журнальных писак, а учился бы настоящему искусству у больших мастеров. Читал бы рассказы Чехова или такие книги, как “Записки охотника”, — все только в этом духе.
Из письма к Джону Каллену, 7 февраля 1939 г.
Прочтите, если не читали, “Записки охотника” Тургенева. А Чехова вы читаете?..
Переводы публикуемых отрывков осуществлены по следующим источникам:
— из “Мемуаров Шервуда Андерсона” — по кн.: Sherwood Anderson’s Memoirs. A Critical Edition / Newly edited from original manuscripts by R. L. White. Chappel Hill, 1969. P. 338, 334, 451.
— из писем — по кн.: Letters of Sherwood Anderson / Selected and edited with an Introduction and Notes by H. M. Jones in association with W. B. Rideout. Boston, 1953 (кроме двух писем к П. Ф. Охрименко). Р. 78, 92, 93, 375—376, 431, 448.
— из писем к П. Ф. Охрименко от 27 января 1923 и 5 марта 1925 гг. — по автографам, хранящимся в личном архивном фонде П. Ф. Охрименко (РГАЛИ, ф. 1673, оп. 1, ед. хр. 24). Автограф первого письма к П. Ф. Охрименко, опубликованного в бостонском сборнике (см. выше) и датированного его составителями январем 1923 г., в фонде отсутствует.